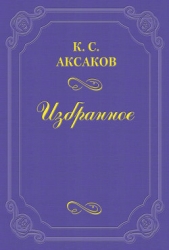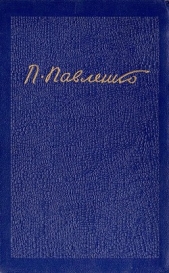Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но и в литературных течениях, вовсе не близких Гоголю и даже враждебных ему, те же проблемы тоже разрешались в эти же годы, хотя и в другом идейном и художественном смысле. Бытовизм и интерес к обыденным явлениям жизни рядовых людей, описания «оборотной стороны» жизни — все это проникает и в крепость романтической литературы, появляется и в творчестве Зенеиды Р-вой (Е. Ган), недаром сочувственно ценившемся в кругах «Отечественных записок» времени Белинского, позднее — в творчестве В. А. Соллогуба, — и вплоть до какой-нибудь романтической повести «Неужели? — или дружба барышень», помещенной в «Библиотеке для чтения» в 1837 году (т. XXI, подпись: П-в), или до повести А. Шидловского «Пригожая казначейша» в том же журнале 1835 года (т. IX), спасенной от забвения предполагаемой связью ее с «Тамбовской казначейшей» Лермонтова; у Шидловского — описание мелкого общества уездного города, мелочи быта, описание деталей, жестов и т. д., сценки, поданные с сатирой и юмором, внешне даже близко к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
И автор «Семейства Холмских» Бегичев, склонный к сентиментальному морализму, обнаружил к концу 30-х годов тягу к бытовизму и натуральности; его «Провинциальные сцены» (названные романом уже в «Сыне отечества», в 1838 году, где был опубликован, в томе четвертом, отрывок из них), законченные в 1838 году (см. там же), хотя изданные лишь в 1840 году, тоже внешне близки Гоголю и вплотную подводят нас к натуральной школе. И даже крайние и пошлые реакционеры гонятся за натуральностью.
Какой-нибудь А. Емичев («Рассказы дяди Прокопья», 1836; раньше печатались в «Библиотеке для чтения») пытается в своих сентиментально-романтических произведениях повествовать о маленьких людях и их быте, о скромной, бедной среде, обыденных вещах.
Реакционный критик Н. А. Энгельгардт даже доказывал дикую мысль о близости гоголевского сатирического бытописания, описаний деталей одежды, обстановки, поведения людей к «Ивану Выжигину» Булгарина (1829), [96] и хотя суть «идеи» Н. Энгельгардта — низвести Гоголя в реакцию — ложна, нельзя не видеть, что даже Булгарин обильно вводил в литературу детали «низкого» быта.
То же следует сказать о другом реакционнейшем и официальнейшем, в духе Бенкендорфа, писателе тех времен, А. П. Степанове. В его повестях [97] есть и густой быт, весьма конкретный и «грязный», мог бы сказать (но ведь не говорил!) Сенковский. Есть все это и в реакционном романтическом и эротическом романе Степанова «Тайна» (4 тома, СПб., 1838); приведу для примера одну страничку — картину весны в Петербурге, всю построенную на предметных и вполне «низких» деталях быта:
«Солнце стало печь не на шутку; снег на улицах тронулся. Ценсора нравственности, будочники, опершись на палки свои, поводили бдительные взоры на кучки буянов, пьяниц, нечестивцев, которые топорами и пешнями докалывали последний лед и обнажали мостовые, по которым кареты, кабриолеты, сани и дрожки ныряли, как суда на волнах бурного моря. Ветер дул беспрестанно юго-западный. В печи подкладывали больше дров, чем зимою; только одни молодцы выставили окна в квартирах своих третьего этажа и, перевесясь через окна, покуривали сигарки, в парчевой тебетейке и бархатном халате, с грудью нараспашку. Нева забурлила, мосты развели; настала весна… Было шесть часов утра; туман садился на мостовую; магазины были не все еще открыты; охтянки тянулись в город, виляя всею нижнею частию своего тела и не шевелясь верхнею, с коромыслом на плече и с молоком в медных и жестяных горлачах на коромыслах. Быстро неслись по тротуарам ночные красавицы: пурпуровые лица их, нетвердая походка, посоловелые глаза, беспорядок одежды — все доказывало, что они спешили в приют ужасных вертепов своих, где едва ли достанется им забыться сном покойным. Ох! как на свете все относительно!..» и т. д. (т. 1, стр. 160–161).
Примеры такого рода можно было бы привести из самых различных писателей 1830-х годов, и даже более ранней поры, в неограниченном количестве; разумеется, увеличение числа примеров не увеличит доказательность выясняемого положения. Думается, что и без такого увеличения очевидно, что Гоголь стал отцом натуральной школы не потому, что он изображал обыденных людей и обыденный быт, не потому, что он описывал предметные детали быта, жестов, одежды, не потому наконец, что он рисовал людей и явления «низменного», с точки зрения дворянской заносчивости, мира. Все это описывалось, изображалось, рисовалось тысячу раз и до него и вокруг него, и его хулители не обвиняли соответственных авторов в «грязи», антихудожественности, подрыве эстетических и прочих основ.
Мало того, именно среди самых рьяных ругателей Гоголя, и именно возмущавшихся его «натуральностью», находились литераторы, специализировавшиеся сами на бытописаниях и на изображениях, так сказать, заднего двора общества. Достаточно вспомнить Булгарина и любовное изображение всяческих подонков общества и просто мелких людишек в его «Выжигиных». Да и остроумие Сенковского черпало материал вовсе не из изысканных салонов. Конечно, пародии на Гоголя, или, вернее, на его школу, напирали по преимуществу на детализацию предметов туалета, жестов и вообще бытовой конкретности. Конечно, враги бранили Гоголя за «низменность» изображений (вспомним, сколько крику было из-за запаха Петрушки). Но враги не давали обязательства выявить истинную идейную и новаторскую сущность метода Гоголя; скорее наоборот, они делали все возможное, чтобы исказить ее, напирая на внешнее и тем скрывая внутреннюю суть.
Пародисты делали то же самое, — как это чаще всего делают пародисты, не те, которые пишут «дружеские шаржи», а те, которые нападают, хотят дискредитировать данное явление искусства с помощью пародии. Они бросаются на деталь техники, на кусок орнамента, раздувают их, выдвигают их вперед и показывают их абсурдность (в раздутом и оторванном от единства системы и от идеи виде они непременно оказываются абсурдами), оставляя в стороне идейную и художественную основу произведения, не так легко поддающуюся осмеянию. Так Сумароков издевался в своих пародиях над отдельными выражениями Ломоносова и над композицией его од, причем отрывал их от корня идейной системы этих од. Так поступали Панаев и Козьма Прутков. Кстати заметить, что по указанной причине надо очень осторожно пользоваться пародиями для уяснения — якобы от противного — существа пародируемых литературных произведений; ими любил в данном плане пользоваться формализм, и по понятной причине: от пародии путь был к отдельным «приемам» произведения, но не к произведению как идейному отражению действительности.
Глубина гоголевского «бытовизма» заключалась как раз вовсе не в том, что он сделал обыденные явления жизни предметом изображения искусства, а в том, как, во имя чего он изображал и обыденные, и не обыденные, и «низменные», и самые возвышенные явления. Тарас и Остап — вовсе не бытовая обыденщина; трагедия Пискарева, гибель Черткова, история с Вием или история антихриста-ростовщика Петромихали — все это вовсе не бытовая и не «низкая» натура. Между тем все это включено в единство изображения действительности наряду и вместе с носами майора Ковалева и мастерового Шиллера и т. п. Так же и описание блистательного светского зала (на радость литературных лакеев 30-х годов) неотделимо от описания публичного дома в том же «Невском проспекте».
Дело в том, что Гоголь иначе, чем его предшественники, увидел и изобразил быт, обыденность, а не в том, что он просто взял да и изобразил быт; как будто бы когда-либо, со времен средневековья, быт не мог быть предметом изображения в литературе; как будто бы дело гения может быть сведено «просто» к тому, что он решил нарисовать черную лестницу вместо парадной, или наоборот. Русских аристократов изображали: Сумароков, Державин, Карамзин, Радищев, Грибоедов, Пушкин, Тургенев, Лев Толстой и многие другие; от этого все эти писатели не стали похожи друг на друга, и не только потому, что они изображали аристократов в разные эпохи жизни русской аристократии (иной раз — в одну и ту же эпоху), а потому, что изображали их с разных социальных, идейных точек зрения.