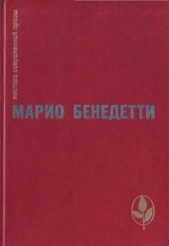Русская критика
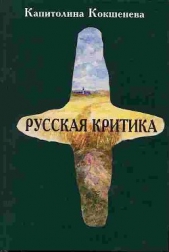
Русская критика читать книгу онлайн
«Герои» книги известного арт-критика Капитолины Кокшеневой — это Вадим Кожинов, Валентин Распутин и Татьяна Доронина, Александр Проханов и Виктор Ерофеев, Владимир Маканин и Виктор Астафьев, Павел Крусанов, Татьяна Толстая и Владимир Сорокин, Александр Потемкин и Виктор Николаев, Петр Краснов, Олег Павлов и Вера Галактионова, а также многие другие писатели, критики и деятели культуры.
Своими союзниками и сомысленниками автор считает современного русского философа Н.П. Ильина, исследователя культуры Н.И. Калягина, выдающихся русских мыслителей и публицистов прежних времен — Н.Н. Страхова, Н.Г. Дебольского, П.Е. Астафьева, М.О. Меньшикова. Перед вами — актуальная книга, обращенная к мыслящим русским людям, для которых важно уяснить вопросы творческой свободы и ее пределов, тенденции современной культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Концепции человека
Усилия, направленные на перемену мест «центра» и периферии», отказ от традиции и установка на конфликт с официальной советской литературой не могли не привести к смене концепции человека, или, говоря по-другому, к утверждению иного его образа в литературе. Чтобы «понять человека» в художественном произведении, мы должны ответить на вопрос: понимает ли он сам себя, обладает ли герой развитым сознанием, с чем и с кем он себя самоидентифицирует, носителем какого типа сознания он является? В модернистской концепции человека (в сравнение как с традиционной, так и с советской) произошли сущностные изменения.
Мы исходим из того, что в современной отечественной литературе, начиная с 80-х годов XX века, существовали две наиболее ярко-очерченные концепции человека. Одна из них — национальная, почвенная. Другая — модернистская. Само это деление свидетельствует о разных источниках писательского сознания, а также о преобладании во втором случае западноевропейской составляющей.
Первое наше наблюдение связано с тем, что, сколько бы не подвергали масштабной уничижительной критике и разрушению советский тип понимания человека, наиболее близким к нему оказался именно модернистский проект. Речь, конечно же, идет о главном. И главное этот состоит в том, что сам человек был вытеснен на периферию (окраину, обочину, «за ворота») художественного сознания и самого произведения. Для советского типа концепции человек был важен как представитель класса, массы, коллектива (колесико, винтик, переводик). Здесь доминировала (речь, повторю, идет об официальных установках) социальная (объективная) теория в понимании человека. Человек, хоть и был победителем и творцом новой жизни, но он оставался по преимуществу «человеком коллективным». Человек коллективный в модернистской интерпретации стал носителем очень просто понятого «коллективного бессознательного» — с одной стороны, а с другой — он также был выдавлен из центра мироздания в пространство «за окружной дорогой», «за 101-й километр», в «спальный район» (о чем уже шла речь выше). Герой «другой прозы», — пишет исследователь, — «чаще всего…не в состоянии поставить важнейшие философские вопросы. Это делает автор на примере сломленного, загнанного в угол человека. “А кто ответит за невинные слезы Веры Павловны, за ее невинные, бессильные старческие слезы на больничной койке перед тем, как Вера Павловна умерла… Кто отомстит за кровь Веры Павловны… и за то, что к концу жизни Вера Павловна от различных препаратов стала безумицей, стала мучиться совершенно безвинно от каких-то непонятных странных мучений”?» (9, 59). Исследователь подчеркивает, что героиня Петрушевской — абсолютна невинная жертва. Жертва не понимаемого ей действа, которое почему-то называется жизнью. (В упоминаемом рассказе Т. Толстой «Поэт и муза» тоже «жизнь виновата», герои же не видят своей вины). Во всех героях рассказа Петрушевской «Кто ответит» (где тоже «нет виноватых») совершенно очевидно поселяется «ужас» перед жизнью как таковой — жизнью как жестокой, так и непознаваемой, бессмысленной, несуразной. Мы видим, что имя героини выбрано полемически по отношению к «революционно-демократическим» тенденциям в отечественной литературе: одноименная героиня абсолютно рационального «теоретического романа» Чернышевского «Что делать» удивляла современников своими знаменитыми утопическими снами о «новой жизни». Героиня Чернышевского знала «что делать» — героиня Петрушевской безумна, полностью смята, искорежена жизнью; жизнь «переехала» ее. Не только человек верующий, человек разумный, человек мыслящий, но и человек деятельный сметаются модернистским «ликвидаторским проектом» с поверхности литературного пространства. Человек Петрушевской, как и многих других писателей — погибает, умирает, исчезает, не осознав себя в мире, не узнав ничего и о самом мире: «Все, что оправдывает человеческое существование и придает смысл страданиям (вера в Бога, в идеалы, светлое будущее человечества, утверждение своего экзистенциального “я”) — все это находится вне рамок понимания бессмысленно, мученически и униженно живущего человека: для него пусты небеса и пустой оказывается душа» (9, 59).
В герое модернистской литературы нет понимания себя в пределах каких-либо культурных, социальных границ, в пределах какого-либо бытийственного статуса. Он инфантилен социально, интеллектуально, но инфантилен и сущностно. У Т. Толстой в рассказе «Петерс» (попал во все исследования о модернизме) дан толстый и некрасивый человек (никакой мальчик, потом «никакой юноша», потом «никакой» пожилой господин). Жизнь его «обманула» — в ней не было ничего яркого, светлого, что и родило в нем желание «отомстить жизни» от имени всех тучных неудачников, «от имени всех запертых в темном чулане, всех, не взятых на праздник жизни» (10, 130). Вот собственно, и вся «соль» рассказа, почему-то завершающегося переживанием Петерса радостной простоты жизни (он «простил жизни» и сумел «улыбнуться» ей). Но, собственно, кто такой он сам, он так и не узнал — в любом случае своей целостности он не понимает и не ощущает. Пафос разоблачения «другой литературы» соседствует с «безнадежностью жизни» как явным ее определяющим смысловым качеством. Так, в рассказе Л. Петрушевской «Время ночь» все посвящено тому самому «ужасу повседневности» (9), который свидетельствует о и внутренней кромешной пустоте человека, не умеющего никак противостоять «жестокости жизни». Героиня рассказа Анна Адриановна все время должна кем-то буквально жертвовать в своей семье, чтобы дать кому-то (более молодому) выжить. Сначала она отправит в сумасшедший дом свою мать (и там оставит ее навсегда), чтобы дать жилплощадь (читай — вообще жизненное пространство) для семьи дочери. Далее ей приходится делать выбор между беспутной дочерью и внуком (обоих прокормить она не в состоянии); потом «выбирает» между сыном и внуком. Эта цепочка «выборов» представляется писателем как серия «ужасов жизни» для всех героев: «высвобождается жизненное пространство» для одних так и только так, что другой обязательно гибнет. В этой жизни нельзя выжить, чтобы не отнять что-то у другого (вплоть до самой жизни). И буквальное физическое исчезновение (смерть) становится источником для реализации планов оставшихся в живых. Рассказ Т. Толстой «Поэт и муза» заканчивается казалось бы историей, совсем не к месту возникающей в финале. Некая женщина после смерти мужа сначала «очень расстраивалась», а потом стала «даже довольна»: «Дело в том, что у этой женщины двухкомнатная квартира, а она всегда хотела одну комнату оформить в русском стиле, так, чтобы посредине только стол и больше ничего. А по бокам все лавки, лавки, совсем простые, неструганые. И стены все увешать всякими там лаптями, иконами, серпами, прялками — ну, всем таким. И вот теперь, когда у нее одна комната освободилась (умер муж — К.К.), эта женщина будто так и сделала, и это у нее столовая, и гости очень хвалят» (11, 355). В рассказе этом освобожденное жизненное пространство (от мужа) не только выступает модернистским символом «ужаса быта», но и выглядит эстетическим поруганием «русского уклада», который для модерниста всегда этнографичен (то есть, мертв).
«Другая проза» активно вводила в литературу «табурованные» соцреализмом темы. Например, в повести С. Довлатова «Зона» (написана в 70-е годы, издана в 1991 г.), описывалась уголовная зона, которая для автора являлась ни чем-то особенным, но «ячейка социума», в которой присутствовали все те же качества, что и в любой другой «ячейки»: тут есть социальная иерархия, есть свои теплые места (хлеборезка, в частности); один из зеков напоминал автору «партийного босса, измученного комплексами» (12, 7); есть в зоне и свое «искусство» (естественно, строящееся по законам соцреализма), есть предательство, подлость, любовь, героизм (ничто человеческое и зекам не чуждо). Однако само понятие «зона» трактуется довольно широко — как «зона души», «ад души». И тогда вполне можно распространить этот прием на всю жизнь — вся она становится «зоной». Из человека-героя изымается вообще духовный стержень, он не живет в мире, где существует духовная вертикаль (иерархическая структура), а сама борьба с принципом иерархии определяет положение человека в мире внутри «второй литературы»: «Я убедился, что глупо делить людей на хороших… злодеев и праведников. И даже — на мужчин и женщин. Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств. И в самом лагере особенно… Есть движение, в основе которого лежит неустойчивость…» (12, 18). «Пустой» инфантильный герой довлатовской «Зоны» становится человеком обстоятельств: «Меня смешит любая категорическая нравственная установка. Человек добр!.. Человек подл!.. Человек человеку — как бы это получше выразиться — табула раса. Иначе говоря — все, что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств» (12, 38).