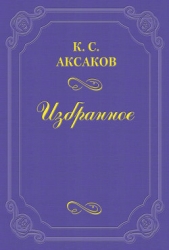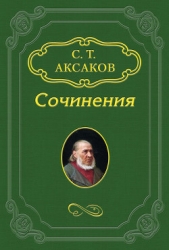В тени Гоголя

В тени Гоголя читать книгу онлайн
Книги о жизни и творчестве бывают разные. Назидательно-нравоучительные и пафосно-патетические, построенные по схеме «родился — учился — женился/не женился — умер». Или же такие, при чтении которых через пару абзацев начинаешь сомневаться, а на родном ли языке это писано, или это некое особое наречие, доступное только членам тайного братства литературоведов и филологов.
Так вот, «В тени Гоголя» совсем не такая книга. И начинается она, как и положено необычной книге, с эпилога. Собственно говоря, сразу с похорон. А в последней главе мёртвые воскресают и мы устремляемся «вперёд — к истокам!» И мы, вслед за автором, проходим путь, обратный тому, который предписан для биографии. От периода распада и превращения писателя в «живой труп» от литературы до искромётного начала, когда творчество ещё не представлялось Гоголю бременем, службой или же долгом перед народом и отечеством. Читая книгу Андрея Синявского, задумываешься о том, как писатель, стремясь к совершенству и пытаясь осмыслить каждый свой шаг, разложить свой дар на составные части, «разъяв гармонию», убивает и свой талант, и себя: «Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребёнными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила».
Отбросьте академические предрассудки, предполагающие, что от каждого чиха в отечественной литературе надо вдохновенно закатывать глаза и возьмитесь за «В тени Гоголя». Читайте с удовольствием, ведь главное преимущество этой книги — живой, не зашоренный взгляд на гоголевские тексты и его героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чем. Может быть, оттого, что не стало наконец ничего любопытного на свете».
Но ведь подобные настроения, за десять лет до приведенных слов, определяли уже во многом тональность «Мертвых Душ», найдя поэтическое выражение в знаменитом зачине шестой главы, посвященной старости Плюшкина и начинавшейся с авторских ламентаций по сходному поводу. Привожу этот известный отрывок в сокращении и с отчеркиванием некоторых существенных акцентов.
«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: всё равно была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, всё, что носило только на себе напечатление какой-нибудь заметной особенности, всё останавливало меня и поражало…Ничто не ускользало от свежего, тонкого внимания… Уездный чиновник пройди мимо — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой… (следует картина семейного вечера. — А. Т.). Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел… Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь, с своею, тогда увы! вовсе не пошлою наружностью, и по нем старался угадamь: кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей, с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшою сестрицею, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам, или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь, да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.
Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юности о, моя свежесть!»
Любопытство, живой интерес, вызнавание и выявление особенного в мире, воображение, вхождение в круг чужих, особенных затей и привычек, удивление, смех и любовь — так рекомендует себя молодое и творческое состояние души Гоголя. Равнодушием, скольжением мимо, исчислением однообразно пошлых примет, холодным безучастием к миру, исчезновением смеха, любви, движения измеряется старость, нынешнее безблагодатное, нетворческое состояние Гоголя. О, разумеется, он еще не таков, он жив еще и продолжает творить, вглядываясь, входя в раздвигающиеся окна садов, квартир, семей и характеров, — исчезни всякое удивление и исполнись его душа окончательного безучастия, не было бы этого, тоскующего о прошлом отрывка. Но всё скучнее и неприютнее ему, всё неподвижнее он смотрит вокруг, приближаясь к тому роковому порогу, когда не станет для него «ничего любопытного на свете». «Мертвые Души» передают нам это, воплощенное непосредственно в тканях словесных, омертвение души художника, еще влачащегося за Чичиковым, еще способного и на внезапные лирические взрывы и всплески, но как бы через силу, как бы в последний раз, в счастливые минуты прозрения, рядом с которыми равнодушие его постоянно охлажденного взора кажется еще безотраднее и безнадежнее. Бесспорно, самый взгляд этот заключает немало достоинств и художественных красот для сотворенного его холодом неподвижного пространства поэмы. Для этого нужно быть гением, быть Гоголем, чтобы собственную смерть обращать, пока хватает сил, в великое произведение, которое само по себе на этой смерти выигрывает и вместе с тем уже полнится ею, несет ее, иссушается и сходит на нет, возвещая величие автора заодно с его погребением.
Нет, причина не в том, что Гоголь в «Мертвых Душах» показал одно плохое. Ужаснее его равнодушный, оптовый взгляд на человеческую породу, хотя на нем, повторяю, зиждется вся колоссальность гоголевского создания, не перестающего оперировать общими величинами, круглыми суммами, описывающего известными словами всем известные вещи («Покой был известного рода, ибо гостиница тоже была известного рода…»), не примечая ничего любопытного, особенного в этом скопище однородно пошлых существ, тождественных друг другу в равномерном отсутствии души и жизни. Ужас состоит не в том, что здесь нет светлого, — здесь нет и темного, нет ни худшего, ни лучшего, все одинаковы, равнозначны, не возбуждая ни сострадания, ни ненависти — лишь одинаково ровное и холодное равнодушие. Нужно было уехать в Италию и вычеркнуть себя из списков живых, нужно было запереться в себе и извергнуть всё человеческое, чтобы посмотреть на жизнь так, как посмотрел на нее Гоголь. Кто там плачет о его преждевременной смерти? Не умри он — не было бы его великолепной поэмы.
Все персонажи «Мертвых Душ» в сущности мертвы и бездушны и как персонажи, которым полагается жить, живут по преимуществу за счет вещей, их обступающих, замещающих и демонстрирующих полнее и лучше, нежели они сами на то способны. С первой же страницы намечается это уравнивание в правах человека с вещами, это чудовищное удвоение человека вещью, которое затем так блистательно развернется и пройдет через весь текст, где вещи действуют вразумительнее своих владельцев, существующих в значительной мере благодаря вещам, оживающим под дьявольским взглядом, чтобы составить единообразный парад кадавров и муляжей — овеществившихся лиц и очеловечившихся предметов.
«…В окне помещался сбитенщик, с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою».
Поэме Гоголя свойственен сплошной подход к человеку, который сам по себе вовсе не интересен, не нужен и занимает автора только в той степени, в какой составляет известный сорт или товар на всемирном рынке, и на этом условии кроется сплошной краской, одноименным набором вещей, из быта перешедших в портрет и внутренний состав человека. Не знаю, сознавал ли Гоголь, что он в отношении своих бездушных героев ведет себя так же, как Чичиков в обращении со своими мертвецами, которых тот. конечно же, не принимает всерьез за подлинные души, но покупает, подсчитывает и в случае чего, спуская с аукциона, распишет мнимые лица, пожалуй, живее, чем Гоголь своего Собакевича, Коробочку, Манилова… (Не пытался ли Гоголь, когда изнемог производить из воздуха, из себя, этот груз, заполучить по дешевке у знакомых своих и читателей «мертвые души» в поголовной описи, чтобы пустить затем за живых по всей России, по пустыне своего истощившегося творения?..) Чем дальше по ходу пьесы, тем небрежнее и торопливее он в вынесении приговоров, в составлении смертных реестров, тем пространнее и отчужденнее взгляд его, скользящий по долам и весям в поисках годного для заполнения тома товара.
«Все были такого рода, которым жены в разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузанчика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства…»
Каким презрением (живого — к мертвым, мертвого — к живым) надлежало ему запастись, чтобы так, на фунты, на кубышки, разменивать человека! А впрочем, народ добрый — добавил бы Хлестаков, обозвав гостеприимных хозяев скотами и дураками, да и запродал бы оптом какому-нибудь Тряпичкину. Но Гоголь-то, мы помним, в «Ревизоре» — не чета Хлестакову — различал любопытное и особенное в людях, сочувствовал им, проникался, и, хотя его персонажами там, строго говоря, были не менее пошлые и куда более развращенные твари, он проводил их всех без исключения по живому и по человеческому курсу. О героях «Ревизора» сказано с ясностью, и это соответствует наличной картине:
«…Никто из приведенных лиц не утратил своего человеческого образа: человеческое слышится везде» («Театральный разъезд»).