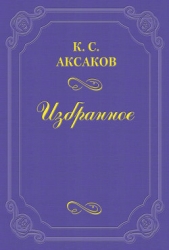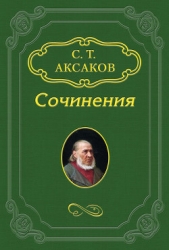В тени Гоголя

В тени Гоголя читать книгу онлайн
Книги о жизни и творчестве бывают разные. Назидательно-нравоучительные и пафосно-патетические, построенные по схеме «родился — учился — женился/не женился — умер». Или же такие, при чтении которых через пару абзацев начинаешь сомневаться, а на родном ли языке это писано, или это некое особое наречие, доступное только членам тайного братства литературоведов и филологов.
Так вот, «В тени Гоголя» совсем не такая книга. И начинается она, как и положено необычной книге, с эпилога. Собственно говоря, сразу с похорон. А в последней главе мёртвые воскресают и мы устремляемся «вперёд — к истокам!» И мы, вслед за автором, проходим путь, обратный тому, который предписан для биографии. От периода распада и превращения писателя в «живой труп» от литературы до искромётного начала, когда творчество ещё не представлялось Гоголю бременем, службой или же долгом перед народом и отечеством. Читая книгу Андрея Синявского, задумываешься о том, как писатель, стремясь к совершенству и пытаясь осмыслить каждый свой шаг, разложить свой дар на составные части, «разъяв гармонию», убивает и свой талант, и себя: «Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребёнными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила».
Отбросьте академические предрассудки, предполагающие, что от каждого чиха в отечественной литературе надо вдохновенно закатывать глаза и возьмитесь за «В тени Гоголя». Читайте с удовольствием, ведь главное преимущество этой книги — живой, не зашоренный взгляд на гоголевские тексты и его героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Защита «Переписки с друзьями», юношески страстная, хватающая за сердце чистотою тона, но слабо аргументированная, сбивчивая, Ап. Григорьеву не удалась. Сам он вскоре писал о своей статье: «Шевырев был прав, назвавши ее стремлением сочувствовать Гоголю». Но в том и соль, что духовный облик позднего Гоголя, как он, в частности, рисуется в этой книге, внушая ужас и смех, вместе с тем неодолимо притягивает к себе, зовет поклониться ему и возбуждает горький упрек, обращенный к нам же самим, ко всякому современному мыслящему человеку. В этом жалком создании, съеденном вчистую своей писательской неудачей и подключающем к этой гибельной страсти всю мыслимую аппаратуру человеческой жизнедеятельности, так что и страсть его уже обращается в дело спасения души и вызволения мертвых, — поражает невиданная, давно уже утерянная людьми, целостность лица и сознания. Он за всё отвечает, за всё — за религию, за государство, за Россию, за мужиков, за Пушкина и за Гоголя. Умирая и разваливаясь на глазах, он осуществляет свой величайший подвиг — собрания и сосредоточения «себя всего в самого себя». Это ему удается сделать не прямым путем демонстрации в собственном лице идеала, который он желал воплотить, а только лишь кривым и перевернутым образом, на которые когда-то он был мастак, — живой карикатуры.
…Следы иссыхания творческих источников Гоголя ни в чем, пожалуй, так наглядно не обнаруживаются, как в исчезновении дара смеяться. В то время, как сам он становится карикатурным лицом, превосходя в этом качестве вымышленных своих персонажей, стихия комического его покидает, для того чтобы фигура его высилась над грудой отреченных книг, как обугленный остов некогда великолепного здания, выгоревшего до тла и пугающего прохожих прочерневшим своим скелетом. В этом видели иногда внушенный религиозными и политическими мотивами переход великого сатирика на чуждую ему (либо вообще невозможную в условиях отсталой России) позицию утверждения той действительности, которую он так отменно критиковал в прежних сочинениях, а теперь, убоявшись, кинулся реабилитировать в вымученных, идеализованных, лишенных жизни картинах. Дело обстояло, однако, куда сложнее и безысходнее. Пафос критики и разоблачения в Гоголе по мере иссякания поэтического дара и смеха не убывает, но заметно увеличивается. Стремление воспроизвести идеал в живом и непосредственном виде не мешает ему более резко и гневно, чем делал он это прежде, выступать с обличениями, и самое имя «сатирика», от которого он раньше отнекивался, предпочитая более широкое и поэтическое наименование «комика», всё чаще звучит теперь на его устах. Это связано, понятно, с возрастающими его социальными и морализаторскими запросами, что так разительно сказалось на дошедших до нас главах второго тома «Мертвых Душ».
«Вторая часть „Мертвых Душ“, — по справедливому отзыву современника, чуть ли не превосходит первую в откровенности негодования на житейское зло, по силе упрека безобразным явлениям нашего быта и в этом смысле, конечно, превосходит всё написанное Гоголем прежде поэмы»
С другой стороны, современники, слышавшие эти главы в чтении Гоголя, нередко восторгались большей их правдивостью и близостью к жизни по сравнению с первым томом:
«— Удивительно, бесподобно! — воскликнул я. — В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь, как она есть, без всяких преувеличений…» (Л. И. Арнольди «Мое знакомство с Гоголем»).
С этим отзывом тоже можно согласиться. Второй том, как он вырисовывается в написанных главах, а также в соображениях, которыми Гоголь делился, относительно его перспектив, предстает как произведение реалистическое в общеупотребительном смысле этого слова, имеющее целью запечатлеть действительность «как она есть», в уравновешенной и объективной картине. Этот переход к реализму как упорядоченной литературной манере, позволяющей копировать жизнь в ее правдоподобных пропорциях, представляется, вместе с падением смеха, вторым наглядным свидетельством творческого оскудения Гоголя. Разучиваясь смеяться, он теряет и охоту утрировать, фантазировать, проецировать мир из внутреннего своего «я» силою преувеличенного, неумеренного воображения, и, как школьник, принимается прилежно списывать с натуры. Это немедленно отражается на качестве его сочинения, которое, желая стать верной копией жизни, теряет яркость, интерес, напряженность и по литературному уровню кажется конспектом средней руки беллетриста. Восхищение слушателей по поводу того, что в новых главах Гоголь становится ближе к действительности, объясняется тем, что он перестает быть Гоголем и начинает писать в обычной, пресной манере, «как все», «как полагается», и даже хуже. Ему нечем писать — он умер внутренне. То, что мы имеем от второго тома, несет печать не столько творческого, сколько механического процесса, как если бы вместо художника поставлен был автомат с заложенной в него нравоописательной программой. «Реализм» в данном случае знаменует отсутствие стиля и внутреннего стимула и заменяет искусство попытками, Гоголю несвойственными и в значительной мере насильственными, выйти сухим из воды за счет «объективной действительности», преподнесенной вместо себя как результат «писательства».
С окончанием первого тома, который невероятным напряжением сил был кое-как завершен, Гоголь начинает обращаться к близким своим, а потом и ко всей России, за помощью, в которой ранее не нуждался, имея в самом себе источник знаний и образов. Теперь, как о милостыне, просит он присылать ему списки с действительности, желательно в готовом уже, расфасованном виде набросков с каких-то социальных картин и характеров (в сущности, он просит читателей заместить его на писательском месте, прислав ему в конверте недостающие «Мертвые Души»). Попутно вооружается он статистикой и журналистикой в поисках верных сведений и фактов и предпринимает самолично попытки «проездиться по России», чтобы набраться необходимой для нового тома начинки. Эти паллиативы, заставляющие иных почитателей умиляться над его «реализмом» и вопиющие о страшной его писательской нищете, сопровождались различного рода логическими обоснованиями, на которые был он специалист, умея кого угодно, даже себя самого, уговорить, что подобное побирушничество и есть для него единственный, практикуемый издавна, способ существования.
«Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства, уверяет он в „Авторской Исповеди“, жалуясь, что никто почему-то не шлет ему просимых посылок. — У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображенье, тем у меня верней выходило созданье.
…Это полное воплощенье в плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его всё тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом — когда соображу всё от мала до велика, ничего не пропустивши».
Звучит убедительно, как законченная формула его творческого подхода вообще, и, кажется, вполне отвечает его старой, добротной манере округлять характеры с помощью мельчайших, обступающих человека деталей. Заготовляя впрок такое вкусное определение, Гоголь безусловно опирался на свой прошлый опыт и лишь слегка подтасовал понятия — воображение и соображение. Его доводы можно было бы принять за чистую монету, если бы не сделанное здесь же мимоходом признание, что воображение от него отлетело под давлением соображения (то есть рассудок убил искусство), если бы не другие, того же времени, признания, что в прежние годы он творил легко и свободно, повинуясь беспредельной фантазии, а теперь, доколе способность воображать им утрачена, он призван писать чистую правду и брать с бою всякую, подсмотренную в натуре черту. Для того и понадобилось ему сталкивать лбами «воображанье» с «соображеньем»: первое у Гоголя уже не работало, и он от него отрекался; второе в нынешней его писательской практике означало не что иное, как рассудочную реконструкцию образов из наличного материала действительности. В то время, как собственную рассыпающуюся личность он силился «сообразить» и привести к единству, в его работе «воображенье» также уступило место «соображенью» — рациональному монтажу. Гоголь пробует выдать его за какой-то новый, подсказанный Богом этап, тогда как на деле то была капитуляция.