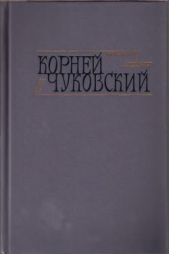Критические рассказы
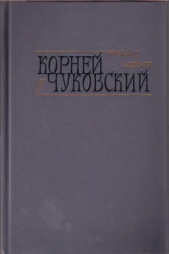
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Степь, да ветер, да ветер…
— Буйно заметает вьюга до крыши утлое жилье…
— Идут, идут испуганные тучи…
Таково его ощущение России: русский ветер, Россия и веселое отчаянье гибели слились в его стихах неразрывно, как будто в России весела только смерть.
Пьеса «Песня Судьбы» затем и написана, чтобы прославить Россию, как ветер и веселое отчаяние гибели. Прежде его милая была либо святая, либо падшая, либо судьба, либо смерть, теперь в этой пьесе она одновременно и святая, и падшая, и судьба, и смерть, потому что ее имя Россия. И всю свою нежность и набожность он отдает теперь этой новой жене:
Россия для него раньше всего — даль, простор, «путь», Заговорив о России, он чувствует себя путником, затерявшимся в погибельных, но любимых пространствах, и говорит, что даже в последнюю минуту, на смертном одре он вспомнит Россию как самое милое в жизни:
Изумительно здесь это слово наши: наша дорога, наши туманы и даже наши шелесты. Трудно далось Блоку это слово. Прежде ничего во всем мире не называл он нашим. Все в мире было для него чужое, ваше.
— В дни ваших свадеб, торжеств, похорон.
До сих пор самым близким было для него самое дальнее, теперь же наконец он нашел наше, свое:
— Да, и такой моя Россия…
— Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Но он любит ее такою же двойною любовью, какою любил и других, не только не скрывая от себя ее мерзости, но, напротив, за эту мерзость и любя ее сильнее всего. Его Русь — разбойная, татарская Русь, Русь без удержу, хмеля, кощунства, отчаяния, Русь Фильки Морозова и Аполлона Григорьева, но с примесью той особенной, музыкальной, щемящей, понурой печали, без которой он не был бы Блоком. Даже здесь, даже в этих неистовствах, чувствовалась его золоторунная грусть. После девятьсот пятого года все стало русским у Блока: его запойное пьянство, его тоскливый разврат, с тройками, цыганами и лихачами. Его лирический герой и в этом — герой Достоевского. С тех пор как он ощутил русский ветер, он стал поэтом плясок, неистовых троек, бешено летящих кобылиц:
— И летели тройки с гиком… — Тройка мчит меня со звоном… — Над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак…
И тем мучительнее были эти неистовства, что в них, даже в самых безумных, не слышалось ни криков, ни воплей. Даже в самых безумных мы чувствовали те же повисшие руки (без жестов), то же неподвижное лицо и ровный, слишком неподвижный голос. Но это делало их еще более зловещими.
Едва он ощутил себя национальным поэтом, он полюбил слово дикий; Россия была мила ему именно дикостью, дисгармонией, хаосом.
— На пустынном просторе, на диком…
— В моей черной и дикой судьбе…
— Твои дикие, слабые руки… и т. д., и т. д., — без конца.
— Дикие песни. — Дикая сказка. — Дикая птица. — Дикая молва. — Дикий сплав миров. — Мир одичал и т. д.
— Как страшно всё, как дико! — восклицал он порою. Эта дикость привлекала его; он чувствовал в ней родное.
Первое же его стихотворение, посвященное Руси, было полно диких и пугающих образов: зарево, нож, ведьмы, кладбище, буйная вьюга и пр. Никакого благолепия: безумная, дикая Русь.
В этой дьявольщине, в этих заревах и вихрях может ли быть покой и уют? Покоя нет:
Не за то он любил свою Русь, что она благолепная, а за то, что она страшная и дикая. Ничего не поймут в его патриотических стихотворениях те, которые станут искать в них благожелательных дум о благосостоянии России. Жалости к России он не знал:
Он принял эту разбойную Русь, как Голгофу. Русские самосожженцы, сжигающие себя ради Христа, были близки ему по восторгу страдания, по веселому отчаянию гибели; он поминал их в драме «Песня Судьбы» и в более поздних стихах. Даже в тех одах, где он набожно славил Россию, он твердил, что она разбойная, падшая, нищая. — Россия, нищая Россия… — О, нищая моя страна! — Так, я узнал в моей дремоте страны родимой нищету… На русском Христе — рубище, русское небо создал убогий художник, русская почва скудна. («Над скудной глиной желтого обрыва»… «Желтой глины скудные пласты»}. Но если бы она была иною, он не воспел бы ее. Ему нужно было любить ее именно — нищую, униженную, дикую, хаотическую, несчастную, гибельную, потому что таким он ощущал и себя, потому что он всегда любил отчаянно, — сквозь ненависть, самопрезрение и боль. В сущности, он славил Россию за то, за что другие проклинали бы ее. Такова всегда была его любовь, претворяющая множество нет в одно да. Это особенно сказалось в том патриотическом стихотворении, написанном в начале войны, где он славил даже такую Россию, какой еще не славили поэты «Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой, от хмеля трудной, пройти сторонкой в божий храм.
Три раза преклониться долу, семь — осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный, три да еще семь раз подряд поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад.
А воротясь домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь, и пса голодного от двери, икнув, ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслюнить купоны, пузатый отворив комод.
И на перины пуховые в тяжелом завалиться сне… — Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!»
Даже в такой скотоподобной России он чувствует хмель и святость и прощает ей перины и купоны. А если перины и купоны, значит, — всё, потому что Россия перин и купонов была единственная, которой до сих пор не прощали поэты.
В поэме «Двенадцать» он вывел Россию еще более падшую и опять повторил слово в слово:
Тут такая вера в свой народ, в неотвратимость его высоких судеб, что человек и сквозь хаос видит красоту ослепительную. Странно, что никто до сих пор не воспринял «Двенадцати» как национальную поэму о России, как естественное завершение того цикла патриотических «Стихов о России», который ныне в его третьем томе носит название «Родина» и некогда был издан патриотическим журналом «Отечество».