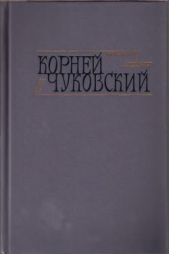Критические рассказы
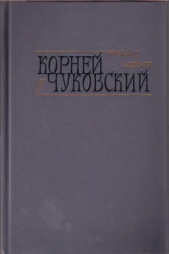
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Другой поэт, даже враждебный революции, попытался бы увидеть в ней хоть что-нибудь светлое, хоть одного героя или праведника, — Блоку это не нужно: он хочет любить революцию даже вопреки ее героям и праведникам, принять ее всю целиком даже в ее хаосе, потому что эта революция — русская.
Пусть эти двенадцать — громилы, полосующие женщин ножами, пусть он и сам говорит, что их место на каторге. («На спину б надо бубновый туз»), но они для него святы, потому что озарены революцией.
На то он и Блок, чтобы преображать самое темное в святое. Разве прихорашивал он ту трактирную девку, которая открыла ему
Разве он скрыл от себя, что она пьяна и вульгарна? Разве он прихорашивал своего свиноподобного хама, когда захотел в его образе прославить Россию? То же случилось и здесь. Он преобразил, не прикрашивая. Пусть громилы, но и с ними правда, с ними вера, с ними Христос.
У Блока это не фраза, а пережитое и прочувствованное, потому что это выражено не только в словах, но и в ритмах. Только те, кто глухи к его ритмам, могут говорить, будто превращение этих хулиганов в апостолов и появление во главе их Иисуса Христа — есть ничем не оправданный, случайный эффект, органически не связанный с поэмой, будто Блок внезапно, ни с того, ни с сего, на последней странице, просто по капризу, подменил одних персонажей другими и неожиданно поставил во главе их Иисуса Христа.
Те же, кто вслушались в музыку этой поэмы, знают, что такое преображение низменного в святое происходит не на последней странице, а с самого начала, с самого первого звука, потому что эта поэма, при всем своем вульгарном словаре и сюжете, по музыке своей торжественна и величава. Если это и частушка, то — сыгранная на грандиозном органе. С самых первых строк начинает звучать широкая оркестровая музыка с нарастающими лейтмотивами вьюга.
Все грубое тонет в ее пафосе, за всеми ее гнусными словами мы чувствуем широкие и светлые дали. Я уверен, что научный ритмико-музыкальный анализ мог бы вполне объективно установить это поглощение низменного сюжета возвышенным ритмом. Происходит непрерывное чудо. Вся поэма — хоть и народная по своему существу — обросла, словно плесенью, нынешним смердяковским жаргоном, но этот жаргон подчинен такой мощной мелодии, что почти перестает быть вульгарным, и даже такие слова, как «сукин сын», «паршивый», «стервец», «толстозадая», «падаль», «холера», «елекстрический», «керенка», «буржуй», — даже эти слова поглощаются ею и кажутся словами высокого гимна. Вырванные из текста они сами по себе очень вульгарны:
Но есть ли такая вульгарность, которой не могла бы преобразить в красоту магическая ритмика Блока? Этой ритмикой появление Христа подготовлено уже с первой страницы. Чуткие уже с первой страницы почувствовали, что этот гимн — о боге.
Но конечно, Блок не был бы Блоком, если бы в этой поэме не чувствовалось и второго какого-то смысла, противоположного первому. Простой, недвусложной любовью oн не умел полюбить ни Прекрасную Даму, ни Незнакомку, ни родину, ни революцию. Всегда он любил ненавидя, и верил не веря, и поклонялся кощунствуя, и порою такая сложность бывала ему самому не под силу.
Часто он и сам не понимал, что такое у него написалось, анафема или осанна, и кто не помнит того томительного и напряженного вдумывания, с которым он говорил о «Двенадцати», спрашивая себя что это, и не умея ответить. Он внимательно вслушивался в чужие толкования этой поэмы словно ожидая, что найдется же кто-нибудь, кто объяснит ему, что она значит. Но дать ей одно какое-нибудь объяснение было нельзя, так как ее писал двойной человек, с двойственным восприятием мира Эту поэму толковали по-всякому и будут толковать еще тысячу раз, и всегда неверно, потому что в ее лирике слиты два чувства, обычно никогда не сливаемые. Тут и Марсельеза, и «Mein lieber Augustin» вместе. Но что же делать, если во всем своем творчестве он всегда сливал Марсельезу и Augustin’a, если эту толстоморденькую Катьку он всегда ощущал одновременно и как тротуарную девку и как Деву Очарованных Далей, если Христос ему всегда являлся и Антихристом.
Его «Двенадцать» будут понятны лишь тому, кто сумеет вместить его двойное ощущение революции…
Обожание у Блока взяло верх, потому что вообще он был поэт обожании. Марсельеза у него всегда торжествовала над Augustin’oм. Всегда и в Незнакомке, и в стихах о России он начинал с омерзения для того, чтобы в конце появился Христос.
В «Двенадцати» высший расцвет его творчества, которое — с начала до конца — было как бы приготовлением к этой поэме. Предчувствиями «Двенадцати» полна его изумительная поэма «Возмездие». Когда его оскорбляла злая цивилизация Европы, когда он вглядывался в «измученные спины» рабов, когда жизнь стегала его «грубою веревкою кнута», он неизменно тосковал о «Двенадцати». Скорее бы они пришли — и спасли! Что они придут, он не сомневался: слишком уж гадостен был для него старый мир и с каждым годом казался всё гадостнее. «Двенадцать» — поэма великого счастья, сбывшейся надежды: пришли долгожданные. Пусть они уроды и каторжные, они уничтожат «наполненные гнилью гроба», они зажгут тот пожар, о котором Блок тосковал столько лет:
Я назвал его поэму «Двенадцать» гениальной. Блок для моего поколения — величайший из ныне живущих поэтов. Вскоре это будет понято всеми. [361] Его темы огромны: бог, любовь, Россия. Его тоска вселенская: не о случайных, легко поправимых изъянах того или иного случайного быта, но о вечной и непоправимой беде бытия. Даже скука у него «скука мира». Даже смех у него — над вселенной.
И всегда, во всех его стихах, даже в самых слабых, чувствуется особенный, величавый, печальный, торжественный, благородный, лермонтовский, трагический тон, без которого его поэзия немыслима. Даже цыганские песни, которые так часто звучат в его книгах, до неузнаваемости облагорожены у него этим величаво-трагическим тоном.
Было в нем тяжелое пламя печали. Именно тяжелое. Его душа была тяжела для него, он нес ее через силу — как тяжесть. В ней не было никакой портативности, легкости, мелочности. Если бы даже он захотел, он не мог бы говорить мелко о мелком, — но только об огромном и трагическом. Он был Лермонтов нашей эпохи. У него была та же тяжелая тяжба с миром, богом, собою, тот же роковой, демонический тон, та же тяжелость неумеющей приспособиться к миру души, давящей как бремя.
То, о чем он писал, казалось таким выстраданным, что, читая его, мы забывали следить за ухищрениями его мастерства.
Его изумительная техника изумительна именно тем, что она почти незаметна. Это у малых поэтов техника выпячивается на первое место, так что мы поневоле замечаем ее. Это про малого поэта мы говорим с восхищением: «Какой у него оригинальный прием!» — «Какое мастерство инструментовки!» — «Какая ловкая и смелая аллитерация!». Но у поэта великого, у Лермонтова или Блока, вся техника так органически спаяна с тем, что некогда называлось душой, что мы хоть и очарованы ею, но не подозреваем о ней. Мы читаем и говорим: «Там человек сгорел», а виртуозно он горел или нет, забываем и подумать об этом. «Там человек сгорел», такова тема Блока: как сгорает человек — от веры, от безверья, от отчаяния, от иронии, и, естественно, эти стихи о человеке, сжигаемом заживо, казались не просто стихами, — но болью. Для читателя это не просто произведения искусства, но дневник о подлинно переживаемом. Блок и сам в автобиографии называет их своим дневником.