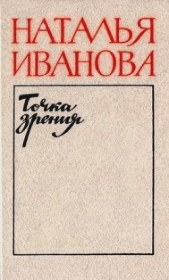Литература мятежного века

Литература мятежного века читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для Ермакова война стала привычным делом, он свыкся с фронтовой обстановкой, любит риск, напряженные минуты боя. Однако главное в другом: Борис тоскует по мирной жизни, по тихим московским читальням. И звание, ордена, славу отважного офицера готов отдать за одну лекцию по высшей математике. Война не убила в нем доброты и сердечности, как сохранили их его фронтовые друзья Орлов, Шура, Скляр, Жорка Витковский, братья Березкины, Лазунчиков... Но реальность диктует свои законы - батальон истекает кровью. Уничтожены огневые точки, кончились боеприпасы, немецкие танки надвигаются со всех сторон, уничтожая на своем пути все, что сопротивлялось, жило. "До последнего стояли. Танками давили", - читаем. А в другом месте: "Печально пахло горьким дымом, дождь пригасил пожары, но тугое урчание танков, торопящиеся, взахлеб, вспышки стрельбы доносились из деревни. Там добивали остатки батальона..."
Наряду с нарастанием ожесточенности сражения в Ново-Михайловке уплотняется ткань художественной изобразительности сочинения. Большой силы экспрессии и эмоциональной напряженности достигает автор в сцене прорыва израненных солдат из плотного немецкого окружения. Семь человек - вот, все, что уцелело из батальонов.
Конечно, в изображении батальных картин большую роль сыграл фронтовой опыт писателя. Но не только лично пережитое. Разгоревшаяся в 60-е годы дискуссия о том, может ли правдиво писать о войне человек, который не был ее участником, по существу, праздное занятие. Как и чересчур категорическое мнение, что "не имея личного военного опыта, о войне писать вообще невозможно" (К. Симонов). Следуя подобной логике, можно дойти до утверждения, будто читатель, не участвовавший в войне, не поймет книг о ней. Тогда для кого и зачем пишутся подобные сочинения?
Здесь не следует упускать из виду, что искусство - особая сфера человеческой деятельности, где главными, решающим является не личный опыт, но сила воображения, способность перевоплощения, "вживания" в материал, проще говоря, художественный талант. Хотя, конечно, нельзя не согласиться с мнением, что в основе творчества лежит опыт, жизнь, знаменательные события эпохи, свидетелями которых мы были. В этом смысле Великая Отечественная война являлась не только тягчайшим испытанием, но и школой мужества. Стало быть, слияние личного опыта с опытом поколений и являет собой ту плодоносную почву, на которой произрастает искусство.
Но продолжим разговор о "Батальонах...". Жизнь человека - наивысшая ценность - таков лейтмотив повести. Отсюда обостренное чувство вины перед павшими, ответственность за жизнь тех, кто рядом. Это присуще Бульбанюку и Ермакову, Гуляеву и Кондратьеву. "Мне, может, и умереть судьба. А вот людей... людей... не уберег... Первый раз за целую войну не уберег. Ничего не мог сделать", - вот что терзает душу смертельно раненного комбата Бульбанюка. Приступы тоски, стальными клещами сжимающие сердце полковника Гуляева, объясняются гибелью батальонов, которым он не мог ничем помочь в момент окружения.
Цена победы и ценность человеческой жизни. Должна ли стрелка качнуться в ту или иную сторону, если бросить их на чашу весов? Разрешимо ли противоречие между неизбежностью платить за победу человеческой жизнью и желанием добра человеку? Эти вопросы с особой силой звучат при столкновении Ермакова и Иверзаева, воплощающих в себе два непримиримых начала... Потрясенный гибелью батальона, в изодранной одежде, оглушенный боем и измотанный до предела, Ермаков идет к командиру дивизии. Он хочет знать, почему и кто обрек батальон на гибель. Иверзев предстал перед ним во всем своем блеске: "На крыльцо шагнул полковник Иверзев, высокий, возбужденный, в длинном стального цвета плаще... Возбужденным, непоколебимым здоровьем веяло от молодого, полного лица, от сочного голоса, от прочной, большой фигуры уверенного в себе человека; и глаза его, которые, очевидно нравились холодной синевой женщинам, блестели сейчас настороженно-вопросительно. "Да, тот Иверзев, - подумал Ермаков. - Тот, который отдавал приказ!"". И в ответ на слова капитана, что батальон дрался до последнего патрона, что люди до последней секунды ждали помощи и остались в живых только пять человек, Иверзев говорит ровным, металлическим голосом совсем о другом, не относящемся к трагической судьбе сотен людей: о том, что завтра будет взят Днепров, что заканчивается формирование новых батальонов и что от капитана требуется подробная докладная записка об обстоятельствах гибели батальона. Ермаков взбешен.
"- А мы там... под Ново-Михайловской думали не о пополнении и докладных... О дивизии, о вашей поддержке думали, товарищ полковник. А вы сухарь, и я не могу считать вас человеком и офицером.
- Что-о? - Иверзев сделал шаг к Ермакову, в его раскосившихся глазах, горячо блеснувших на белом лице, выразился несдержанный гнев, а пальцы правой руки нервно сжались в кулак, ударили по перилам. - Замолчать! Под суд отдам! Щенок!.. Под суд!"
Это не просто угроза. Иверзеву необходимы веские доводы в свою пользу, это развязало бы ему руки, успокоило, утвердило в правоте и непогрешимости совершаемых им поступков. Вихрь мыслей пронесся в его голове... "Шел дождь, было сыро в комнате, законом сумеречно-уныло отсвечивали поникшие кусты в палисаднике, и на крышу, шумя по-осеннему, наваливались ветви сосен. Пытаясь неопровержимой логикой рассуждений успокоить себя, он думал, что этому артиллерийскому офицеру, видевшему гибель батальона, еще трудно было понять, какое значение в общей операции армии под Днепровом приобретали бои в Ново-Михайловке и Белохатке. Что ж, за этим офицером стояла еще большая правда ответственность за гибель батальона, за ним же, Иверзевым, стояла еще большая правда ответственности за всю дивизию. И эта стойкость батальонов Бульбанюка и Максимова была для него, и не только для него, лишь шагом к Днепрову, маневром, который должен был в определенной степени обеспечить успех всей операции. Он знал, что завтра решится все..."
Но эта, казалось, убедительная логика самооправдания не успокоила Иверзева. Он считал себя сильной личностью, был убежден, что обязан заставлять подчиненных выполнять свою волю. Действия Ермакова не укладывались в его схему, разрушали его. Иверзев знал также, что в случае неудачи с взятием Днепрова обязательно будут искать виновных, которые должны быть. Надо выждать, осмотреться - и он приказал вызвать майора Семинина и двух автоматчиков. Ермакова арестовали.
Как бы там ни было, в характере Иверзева писатель показал то, что в 60-е годы считалось нетипичным для военной поры, не укладывалось в общепринятые схемы, а потому или замалчивалось, либо строго порицалось.
Критика нервно засуетилась. В пору публикации "Батальонов..." появились статьи, оправдывающие Иверзева на том основании, что в своих действиях он исходил из своей правды, правды командира дивизии, которая выше и справедливее правды подчиненного. В известном смысле это была дань так называемой теории "двух правд", которую, намекалось, исповедует и Бондарев. Иные рассуждали так: чем старше офицер по должности, тем большая ответственность ложится на его плечи - за все, и прежде всего за людей, - и тем глубже скрыты, менее доступны для "простого" глаза его намерения, поступки и решения. Другими словами, руководящий товарищ (у Гоголя "значительное лицо") прав по-своему и судить о его поступках необходимо с учетом его положения. Посему, утверждалось, правда Иверзева большего масштаба и большей исторической справедливости, нежели правда Ермакова. Итак, правда подчиненного и правда начальника, обладающая большей исторической справедливостью; существование некоего особого иверзевского человеколюбия, которое, надо палагать, подлиннее человеколюбия Ермакова.
Как же разворачиваются события в сочинетии? "Иверзев шагнул к брустверу, ноздри его раздувались, две волевые складки углубились в краях рта.