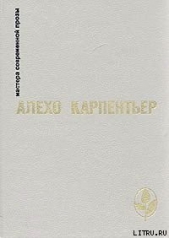Ренессанс и барокко: Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии

Ренессанс и барокко: Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии читать книгу онлайн
Шесть книг, которые составляют серию «Художник и знаток» выходящую в издательстве «Азбука-классика», знакомят читателя с памятниками мирового классического искусствознания.
Сочинение Вёльфлина открыло современникам новые методы стилистического анализа и иной взгляд на саму категорию барокко. В основу книги легла новая редакция перевода Е. Г. Лундберга снабженная современным научным аппаратом. Издание содержит большое количество иллюстраций. Предназначено для специалистов и всех интересующихся изобразительным искусством.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такие слова можно сказать только в полемическом задоре, и они отражают ту борьбу мнений, которая развернулась на рубеже XIX и XX веков по поводу методов искусствознания. По сути дела, в приведенных словах Вёльфлин отказывался и от понятия «художественной воли» А. Ригля, этой перенесенной в искусствознание «абсолютной идеи» Гегеля, и от концепций младших сотоварищей — Макса Дворжака и Эрвина Панофского, предлагавших видеть в искусстве не только форму, но и закодированное послание изнутри тела культуры. Разные ученые осуществляли эту операцию по-разному, но Вёльфлину это было все равно, и он не собирался вдаваться в различия между концепциями, которые представлялись ему ошибочными. Он настаивал на том, что следует ограничиваться формальным анализом, но сам этот анализ должен быть доведен до совершенства. Возникла строго формализуемая дисциплина, в которой имеется набор элементарных исходных аксиом и предлагается методика систематического, неслучайного разворачивания этих исходных аксиом в итоговые постулаты. Причем, что характерно для позитивной науки, новый искусствовед вёльфлиновского типа теперь не был вынужден искать свои результаты на стороне.
Он теперь обращался исключительно к самому произведению как таковому, не выходил за рамки произведения. Исследователь «формальной школы» анализировал устройство и фактуру, форму и другие специфические параметры церковного фасада или скульптурного рельефа, алтарной композиции или живописного портрета. Таким образом, предмет рассмотрения был строжайшим образом ограничен и конкретизирован. Теперь вроде бы не надо было думать о том, что там находится за пределами самого формального языка как такового. За кадром остаются история и психология, экономика и политика, религиозные движения и развитие технических средств.
Сам Вёльфлин был прекрасным эрудитом по этой части, особенно в том, что касалось истории культуры Италии, но его метод позволял отсекать аморфную материю, «культуру вообще», и это было замечательным и поучительным открытием. В известном смысле можно видеть в том настоящую революцию. Как это ни парадоксально, в определенной перспективе академический профессор Вёльфлин олицетворял собой дух бунта и непокорности. Он выстроил здание гуманитарной дисциплины, которое покоилось не на постулатах Канта и Гегеля (точнее, Риккерта, Когена и прочих хранителей философской мысли, рассматривавшейся как главное культурное достояние Германии).
Вёльфлин предположил, что у искусствознания есть свои законы, свои методы, свои понятия, которые, разумеется, не отделены китайской стеной от общих принципов гуманитарного знания (в том числе и от философии), но имеют и высокую степень автономности.
Искусствознание одно время до крайности воодушевилось этими в самом деле революционными новациями Вёльфлина. Действительно, теперь ученые держали в своих руках то, чего никогда не было в искусствоведении прежних времен: ясно очерченный предмет исследования и логично выстроенную методику его рассмотрения и анализа. Успех этого труднейшего предприятия (превращения искусствознания в строгую науку) представлялся столь очевидным, что Прусская академия наук в Берлине впервые приняла историка искусств, создателя «формальной школы» в число своих сочленов в 1901 году. Началась история искусствознания в его новой ипостаси — в виде академической науки высокого полета, науки, которую преподают в университетах, за которую присуждают звания и титулы и которая обладает своей иерархией ценностей и понятий, имен и мифов.
Затем, как известно, настали другие времена, «формализм» вёльфлиновской школы стал казаться чересчур узким и искусственным, и развернулись поиски других смыслов и ценностей искусства — тех самых, которые, разумеется, запечатлевались в формальном устроении произведения, но которые определялись как раз теми самыми аспектами культурной реальности времени, от которых суровый Вёльфлин требовал абстрагироваться. Венская школа выдвигает из своих рядов молодого Макса Дворжака и новую школу «Истории искусств как истории духа» (Kunstgeschichte als Geistesgeschichte).
С севера Германии, из Гамбурга, приходит и распространяется методика работы со «скрытыми смыслами» и зашифрованными кодами сакрального искусства и классического «образованного» искусства прошлого. Знаменем этого нового этапа развития становится имя Эрвина Панофского. Эти постформальные методики исследования как бы возродили интерес к той самой общекультурной материи, которую Вёльфлин выводил за скобки. В известном смысле можно утверждать, что его дело кончилось так называемой великой неудачей, как и большинство великих интеллектуальных предприятий и философских открытий XIX–XX веков. Мы же не можем сказать, будто Макс Вебер, Эдмунд Гуссерль или Зигмунд Фрейд на самом деле «выиграли» те грандиозные кампании по обновлению своих дисциплин (или созданию новых), которые (кампании) были ими затеяны. Революции в гуманитарных науках происходили по другим сценариям и оплодотворяли поле знаний не только в качестве общепризнанных методов, но и в качестве остропроблематичных и дискуссионных методов, зачастую жестоко критикуемых и радикально корректируемых.
Основатели новых школ гуманитарного знания в конце XIX и начале XX века, создатели новой психологии и социологии, новой философской антропологии и истории, нового литературоведения и искусствознания не были творцами незыблемых истин. Они добились более проблематичных, но и более плодотворных результатов: с них начался новый виток споров и дискуссий, соперничества и схваток воззрений и школ — одним словом, началась новая жизнь.
Искусствоведение уже в первые десятилетия XX века стало все более настоятельным образом разворачиваться в сторону «культурологии», пытаясь не растерять достижений формальной школы Вёльфлина, но выработать тот широкий и общий взгляд на искусство и культуру, который в узком «формализме» не обязателен. Помня об этом и имея в виду эти новые импульсы, попытаемся теперь поглядеть на эпоху Вёльфлина и его младших современников так, как мог бы посмотреть великий культуролог XIX века Якоб Буркхардт. В какой исторической среде, в какой культурной атмосфере существовали Вёльфлин и Дворжак, Панофский и Зедльмайр в то самое время, когда произошли судьбоносные повороты, развороты, революции и когда искусствоведение превратилось в зрелую и развитую дисциплину?
Наука о классическом искусстве как таковая, если рассмотреть ее в культурном контексте эпохи, представляется бастионом своего рода культурного консерватизма. Как было сказано выше, ее в современном виде не существовало до конца XIX века.
То были те самые времена, когда культурное общество Запада (образованные классы, как принято говорить в англосаксонской социологии) полностью признавало ценность классического искусства. Правда, Ипполиту Тэну, Джону Рёскину и другим знаменитостям доклассического искусствоведения было ведомо, что в последние времена появились какие-то сомнительные экспериментаторы, к которым уже приклеились странные и смешные прозвания: «романтики», «импрессионисты». Но всякому уважающему себя культурному человеку XIX века представлялось несомненным, что великое и настоящее искусство — это искусство от Рафаэля до Энгра, от Дюрера до Гейнсборо, а неудачные опыты несчастной современности можно просто сбросить со счетов. (Не случайно Бальзак дает главному герою «Шагреневой кожи» имя Рафаэль: это значимое имя, и оно обозначает «культурного героя» Нового времени.)
Позиции классического искусства в сознании образованного человека были в XIX веке чаще всего совершенно незыблемы, а вот науки о классическом искусстве, то есть строгой науки в академическом смысле, еще не существовало. С конца XIX и особенно с начала XX века разворачивается беспрецедентная серия культурных субверсий, потрясений основ классического искусства и литературы. Рождается новая авангардистская культура. И вот надо же было так случиться, что именно на этом историческом отрезке, в условиях глубоких потрясений старой музейной культурности как таковой и рождается искусствоведческая наука, которая и посвящает свои главные усилия научному познанию истории искусства «от Рафаэля до Энгра». Имеется в виду — в метафорическом смысле: предметом подлинной искусствоведческой науки могут быть не только Рафаэль или Энгр, но и Фидий, и братья ван Эйк. Но что касается таких фигур, как Пикассо и Малевич, то эти последние, как долгое время казалось, никак не могут быть предметом научного познания и обречены оставаться в ведении критиков, эссеистов, философствующих теоретиков и прочих несолидных фантазеров. Такое представление о предмете искусствоведческой науки стало меняться лишь к концу XX века, когда определенные разделы авангардного искусства стали с осторожностью вводиться в обиход большой науки.