Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
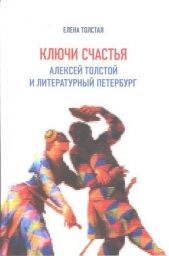
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург читать книгу онлайн
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, вписанные ею слова вырвались из самого сердца, и описывают они свою собственную, а не крепостную зависимость — и не только материальную.
Шапорина в это время все строже судит Толстого, к которому еще недавно, в конце 1920-х, она относилась с восхищением. Переоценка налицо: в дневниковой записи фразу «Все-таки умный человек» она зачеркивает и меняет на противоположную по смыслу:
19. XI.34. Все-таки Толстой хоть и умный человек, но у него нет широты кругозора. Он был третьего дня (перед этим у него состоялось официальное совещание с Юрием, где присутствовали Иохельсон и Ашкенази). Он говорит теперь du haut de sa grandeur [303], и вещает истины: «Довольно барабанного боя, декабристы должны ходить по земле, современная опера должна быть реалистической. Вот, смотрите; в “Леди Макбет” [304] говорят о грибках, о шерстяных чулках, вот как нужно писать теперь оперу». Я: «Да, но декабристы и не ходили по земле, возьмите дневник Кюхельбекера. Музыка по своему существу абстрактна, и опера всегда условна».
Толстой: «Это один Кюхельбекер. Всякое время диктует свои законы — сейчас должен быть реализм. Что же касается музыки, то я в этом ничего не понимаю, говорю прямо».
Юрий молчал или оппонировал очень скромно, вид имеет запуганный.
Нельзя было ставить себя в такое глупое и унизительное положение.
Толстой и Шапорин, вероятно, никогда не смогут договориться.
Толстой — это быт, реализм, анекдот, а опера всегда романтична. Романсы Юрия — вот его творческая тональность (Там же: 183–184).
Действительно, в конце 1934 года Шапорин ссорится с Толстым. Ему кажется неудовлетворительным либретто, и он винит писателя во всех своих бедах. Назревает разрыв отношений. Одновременно разваливается дом Шапориных. В декабре 1934 года наступает финал, он совпадает с убийством Кирова. Шапорин наконец уезжает от Любови Васильевны навсегда и вскоре переберется и из опального Ленинграда в Москву. Стихи для арий вместо Наталии Васильевны ему будет писать поэт Вс. Рождественский. А после ссоры Шапорина с Толстым в 1936 году он станет единственным либреттистом.
Но писание злосчастной оперы все никак не могло закончиться. Условия и требования начальства постоянно менялись — идеологический климат крепчал. Французские сцены выкинули вообще, теперь опера начиналась массовой сценой на московской улице. Полину Гебль потребовалось потеснить, в центре должен был встать Рылеев, затем понадобился и Пестель. Ср. рассказ Б. Э. Хайкина [305], процитированный Михаилом Ардовым:
Борис Эммануилович презабавно изложил историю создания одной из современных опер:
«<…> В опере многое трансформировалось, пока она ставилась, а иной раз и “превращалось в собственную противоположность”. Время было тревожное — только что отгремели бури по поводу “Великой дружбы” Мурадели и “От всего сердца” Жуковского [306]. С “Декабристами” было несколько спокойнее — тема не современная, а историческая, но все же кто его знает? Обжегшись на молоке, дули на воду. Из Москвы все время поступал новый и новый материал. Поначалу у Шапорина в опере не участвовал Пестель. Пестель, как известно, руководил южным обществом, а опера была о петербургском восстании. Но как же “Декабристы” без Пестеля? И вот в готовую уже оперу вошел Пестель. (Замечу в скобках, что Ю. А. Шапорин это очень искусно сделал <…>) Но Пестелем не ограничилось. <…> У Шапорина слово “кошмар” не сходило с уст. Анненков <…> спрашивает у Пестеля: “Пестель! Но как вы здесь?” А А. Ф. Кривченя, выдающийся актер, простодушно отвечает: “Да я и сам не знаю, как я здесь”. (Это было на репетиции.)» (Хайкин 1984: 87; Ардов 2000: 115–116).
Интереснее всего в этой истории то, чего не пишут мемуаристы и что выясняется из знакомства с самим оперным либретто, как оно приведено в книге «100 опер»: там деспотическая мать-помещица не дает Щепину-Ростовскому (бывшему Анненкову) жениться на отечественной невесте — небогатой Елене, соседке по имению. Никаких следов ни прежних имен героев, ни свободолюбивой француженки обнаружить не удается. Пройдя все унижения и пожертвовав всем, чем можно и нельзя, Шапорин закончил своих «Декабристов» только еще через двадцать лет, премьера ее пришлась на последние дни сталинского режима, и «громоздкая опера» оказалась никому не нужна.
Инфаркт, кукольный театр Шапориной, «Пиноккио»
Разлад, хотя исподволь и под сурдинку, происходит и в соседнем доме — у Толстых; до поры до времени никто об этом не подозревает.
В Горках образовалась новая ситуация. В мае 1934 года от воспаления легких, полученного в весьма подозрительных обстоятельствах, умер молодой Максим Пешков. Толстой с удвоенной энергией возобновил ухаживание за овдовевшей Н. А. Пешковой. 17 августа начался I съезд советских писателей, на котором Толстой делал доклад «О драматургии». Этим летом, часто бывая в Москве, Толстой сконцентрировал свои усилия на завоевании прекрасной вдовы Максима Пешкова. Он предложил ей стать его секретарем и просил командировать их в Италию собирать материалы для нового исторического романа о падении Рима. План не утвердили. К счастью для себя, Толстой не имел успеха и у самой Тимоши.
С женой у Толстого все более напряженные отношения. Атмосфера накаляется, и в конце 1934 года Толстой оказывается в постели с двойным сердечным приступом, 27 и 29 декабря. Во встревоженном письме больному Горький мягко остерегает его против «каторжной работы», «винопития» и «духовного общения с чужеродными женщинами», рекомендуя ограничиться «общением с единой и собственной своей женой, — общением, кое установлено и освящено канонами православной кафолической церкви» (Переписка-2: 192). Он не мог не быть в курсе толстовских надежд.
Выздоравливая после приступа, Толстой, которому запретили работать, играючи начинает давно обговоренную обработку «Пиноккио». Он решил вернуться к этой вещи, видимо, сразу после прекращения в 1933 году педологической «антисказочной» кампании (Петровский 2006: 246); в октябре 1933 года он заключил с Детгизом на нее договор. Вначале Толстой хотел просто «русским языком написать содержание Коллоди». Надо так понимать, что он просто вернулся к переводу «Пиноккио» Коллоди, который сделала Нина Петровская в 1923 году, когда Толстой редактировал «Литературное приложение» к газете «Накануне», а Петровская была его сотрудницей. Толстой тогда обработал ее перевод, подсократил и изрядно оживил его, и в 1924 году книга вышла в Берлине; на обложке стояло: «К. Коллоди. “Приключения Пиноккио”. Переделал и обработал А. Толстой. Издательство “Накануне”». Лишь на титуле было указано также: «Перевод с итальянского Нины Петровской».
Однако текст все же оставался переводом не Бог весть как (с точки зрения писателя, прошедшего школу модернизма) написанного оригинала. Видимо, первоначальный план Толстого состоял в том, чтоб еще раз пройтись по тексту и сдать книгу как свою. Петровская умерла еще в 1928 году, про ее перевод «Пиноккио» никто или почти никто не знал. Имя Толстого с самого начала фигурировало в этом издании на правах чуть ли не соавтора Коллоди, так что криминала как бы не было. А выдавать уже вышедшие в эмиграции свои книги за новые он умел: повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус» он напечатал в 1923 году в Берлине, в журнале А. Дроздова «Сполохи», а по возвращении в Советскую Россию издал как новую, и за ней в библиографиях так и закрепился 1924 год.
Но, очевидно, Толстому скоро стало ясно, что с переводом Коллоди ничего сделать было нельзя. Маршаку он написал, что «выходит скучновато и пресновато». Конечно, речь шла о первых главах, где он пока дословно или близко к тексту шел за Коллоди, и это Толстого стесняло. Рукопись в Детгиз он так и не представил, но обсудил дело с Маршаком таким образом, что тот решил: Толстой «мог бы проявить себя гораздо ярче и полнее в свободном пересказе повести, чем в переводе…» (Маршак 1971: 569). (Интересно, знал ли тогда Маршак о берлинском «Пиноккио»? [307]) И Толстой предложил директору Детгиза делать «Пиноккио» для ленинградского отделения, то есть для того же Маршака (Петровский 2006: 243–244). Получив «благословение Маршака», Толстой в феврале 1935 года сообщал Горькому: «пишу на ту же тему по-своему» (Переписка 1989-2: 202).


























