Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
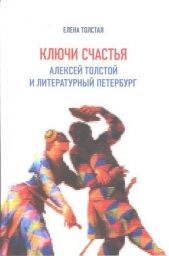
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург читать книгу онлайн
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За столом завязывается спор на вечную тему «мы и они». Любовь Васильевна в одиночестве озвучивает прозападную позицию, остальные присутствующие остаются при традиционном славянофильстве:
[5.III.1932]. М. А. Бонч-Бруевич принес показать чудесные коробки из Палеха [299], у него их штук 10–12. Очаровательные. «Вот в вашей Европе есть что-нибудь подобное?» — «Конечно есть». — «Нет, там ничего нет, кроме гниения. Только у нас идейное устремление, только у нас литературное творчество».
Я: «Простите, литература не выше европейской». Толстой: «Где их Флоберы, Бальзаки?» Я: «А где наши Львы Толстые или Достоевские?» — «Все это впереди» (Там же: 115).
Наконец Толстой решает ехать и отправляется в марте — апреле 1932 года в Италию, по приглашению Горького, который пока еще остается в Сорренто, но уже подготавливает возвращение, с 1927 года регулярно подолгу навещая Россию. Это был первый выезд Толстого за границу после девятилетнего перерыва. Маршрут его лежал через Берлин, где он должен был встретиться с издателями и уладить проблемы заграничных гонораров, оттуда в Рим и далее в Неаполь.
В Сорренто Толстой познакомился с Надеждой Алексеевной Пешковой (по прозвищу Тимоша), женою сына Горького, инфантильного Максима Пешкова. Именно она показывала ему Италию. Вместе с молодежью виллы Иль Сорита, где жил Горький и его близкие, Толстой ездил по окрестностям Неаполя, посещал окрестные достопримечательности, деревни, таверны, катался на лодках и т. д. В результате своих итальянских каникул пятидесятилетний, обрюзгший, удрученный флюсом А.Н. влюбился в юную Тимошу.

В Сорренто
В следующем, 1933 году Горький с семьей окончательно переехал в СССР. Возвращение Горького изменило всю жизнь Толстого. Отныне фокусом всех его интересов становится дом Горького в подмосковном поместье Горки. Кажется, свободный, приближенный к власти, молодой и военизированный стиль жизни, принятый в доме у Горького, бросается ему в голову. Это стиль не столько Горького, сколько его окружения, чекистско-номенклатурного общества, собиравшегося в Горках. По сравнению с концом 20-х Толстой резко изменился, и Шапорина остро воспринимает разницу:
[8.XI.1933]. Толстой последнее время одержим правительственным восторгом. Через два слова в третье — ГПУ, Ягода, Запорожец и т. д. Ягода мне говорит… Я говорю Ягоде… А еще прошлой осенью Алексей Николаевич ругал Горького: там бывать невозможно, везде ГПУ. Ягода был мерзавцем, которого надо сместить.<…> Еще три года назад у Толстых во всех комнатах висели образа, ходили в церковь, а теперь же: да здравствует марксизм (Шапорина-1: 143–144).
Сопровождается все это сквернословием. Это подтверждает гипотезу о том, что языковая распущенность компенсировала утрачиваемую свободу, а может быть, свидетельствовала о накапливавшемся внутреннем раздражении. Возможно, Толстой начинал чувствовать, что становится старомодным в своем царскосельском уединении с ближайшими друзьями — Фединым, Шапориным и Шишковым. Талантливые и благоденствующие при новом режиме, пока не пошедшие на большие нравственные жертвы, сохраняющие порядочность, гуманность и верность старым друзьям, они составили кружок, который в некоторых ракурсах постороннему взгляду мог показаться похожим на тихую оппозицию. Оппозиции, конечно, не было, за исключением тещи, старухи Анастасии Романовны Крандиевской, которая после смерти В. А. Крандиевского не сжилась с семьей младшей дочери в Москве и жила у старшей в Детском: она любила эпатировать и могла ляпнуть при гостях: «Алешка продался большевикам». Но у Толстого было ощущение неполной поддержки жены. Еще в конце 1929 года Н. В. Крандиевская чувствует некоторое отдаление от мужа. Она записывает в дневнике:
Зима 1929. Пути наши так давно слиты воедино, почему же мне все чаще кажется, что они только параллельны? Каждый шагает сам по себе. Я очень страдаю от этого. Ему чуждо многое, что свойственно мне органически. Ему враждебно каждое погружение в себя. Он этого боится, как черт ладана. Мне же необходимо время от времени остановиться в адовом кружении жизни, оглядеться вокруг, погрузиться в тишину. Я тишину люблю, я в ней расцветаю. Он же говорит: «Тишины боюсь. Тишина — как смерть»: Порой удивляюсь, как же и чем мы так прочно зацепились друг за друга, мы — такие противоположные люди?…Вчера Алеша прочитал эту страницу из моего дневника и ответил мне большим письмом, а в добавление к нему сказал сегодня утром: «Кстати, о тишине. Ты знаешь, какой эпиграф я хочу взять для нового романа? Воистину, в буре — бог. Тебе нравится?» «Замечательный эпиграф», — ответила я и подумала — да, бог в буре, но в суете нет бога (Греков 1991: 320).
Муж отвечает ей на это размышление письмом из комнаты в комнату:
Что нас разъединяет? То, что мы проводим жизнь в разных мирах, ты — в думах, в заботах о детях и мне, в книгах, я в фантазии, которая меня опустошает. Когда я прихожу в столовую и в твою комнату, — я сваливаюсь из совсем другого мира. Часто бывает ощущение, что я прихожу в гости… Когда ты входишь в столовую, где бабушка раскладывает пасьянс, тебя это успокаивает. На меня наводит тоску. От тишины я тоскую. У меня всегда был этот душевный изъян — боязнь скуки (Переписка 1989-2: 80).
Он говорит о своем противоположном влечении — «ко всему летящему, текучему, опрокидывающему»:
Ты понимаешь происходящее вокруг нас, всю бешеную ломку, стройку, все жестокости и все вспышки ужасных усилий превратить нашу страну в нечто неизмеримо лучшее. Ты это понимаешь, я знаю и вижу. Но ты как женщина, как мать инстинктом страшишься происходящего, всего неустойчивого, всего, что летит, опрокидывая. Повторяю, — так будет бояться всякая женщина за свою семью, за сыновей, за мужа. Я устроен так, — иначе бы я не стал художником, — что влекусь ко всему летящему, текучему, опрокидывающему. Здесь моя пожива, это меня возбуждает, я чувствую, что недаром попираю землю, что и я несу сюда вклад (Там же).
Тем не менее он заклинает ее: «Нужно прощать друг другу, и, как мы только можем, любить друг друга, любить как два растения, прижавшиеся друг к другу в защиту от черной непогоды» (Там же).

Н. Крандиевская с Никитой и Митей
Но она действительно перестает безоговорочно его поддерживать, как видно из дневника Шапориной. Это происходит после двадцатилетнего брака, после совместных скитаний. Это обычно мягкое неодобрение, но оно поддерживается ее подругами, а также, все более, — фрондой их старших детей, не привыкших бояться. И это не может не раздражать Толстого, пытавшегося сохранить цельность личности и предпочитавшего верить режиму, которому служил. Правда, с определенного момента режиму верить стало нельзя:
Вернувшись с похорон Кирова, Толстой был не в себе: Лицо его было бледно-серого цвета. Мы все кинулись к нему: «Ну как? Расскажи! Кто же убийца?» Помню, отец оглядел нас всех и около минуты простоял молча. Мы затаили дыхание. «Что вам сказать?.. Дураки вы все. Ничего не понимаете и никогда не поймете!» — резко, но не повышая голоса произнес он и поднялся к себе в кабинет (Толстой Д. 1995: 84).
Сыновья вскоре догадались, что он имел в виду. Он понял, что на самом деле произошло, — и очень испугался. Тем опаснее должен был показаться ему аполитичный кружок, отгораживание от современности и помещичий стиль жизни в Царском. Из домашней защищенности и скуки он рвется прочь — туда, где молодость, сила и власть. Крандиевская впоследствии вспоминала:
Убыль его чувств ко мне шла параллельно с нарастающей тайной и неразделенной влюбленностью в Н. А. Пешкову. Духовное влияние, тирания моих вкусов и убеждений, все, к чему я привыкла за двадцать лет нашей общей жизни, теряло свою силу. Если я критиковала только что написанное им, он кричал в ответ, не слушая доводов: «Тебе не нравится? А в Москве нравится! А 60-ти миллионам читателей нравится!» Если я пыталась, как прежде, предупредить и поправить его поступки, оказать давление в ту или иную сторону, — я встречала неожиданный отпор, желание делать наоборот. Мне не нравилась дружба с Ягодой, мне все не нравилось в Горках.
— Интеллигентщина! Непонимание новых людей! — кричал он в необъяснимом раздражении. — Крандиевщина! Чистоплюйство!
Терминология эта была новой, и я чувствовала за ней оплот новых влияний, чуждых мне, быть может, враждебных (Греков 1991: 337).


























