Невидимый град
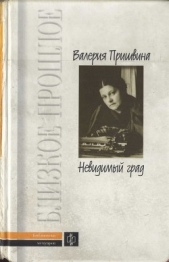
Невидимый град читать книгу онлайн
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«29 июня 29 г. Милая Ляля, пользуюсь случаем написать несколько слов, хотя особенного ничего нет. Надеюсь сегодня получить от тебя письмо. Дошли ли до тебя все мои послания — два, воздушной почтой и одно простое, и маме твоей одно. Я еще думал обо всем и убеждаюсь, что тебе нет иного образа действия. Ты оскорбляешь Бога, ожидая знамения, нехорошо это.
Уезжай и скажи А. В., лучше напиши, что если он тебя любит — любовь подскажет ему, что надо делать. Это вырвало бы и тебя, и его из той больной атмосферы, которую ты сама же около себя поддерживаешь. Уверяю тебя, что, если бы отошла сама хоть на несколько дней, ты ужаснулась бы ложности твоего положения.
Обо мне не беспокойся. Я живу отлично.
Уходят, спешу кончать. Прости за пустое письмо, трудно писать, когда через минуту надо кончать. Помню тебя все время и все сделаю, что можно будет. Сейчас чувствую почву под ногами в экономическом отношении, спокойствие и уверенность, что пора тебе переменить жизнь. Целую тебя. Г. с тобой. Не забывай меня… Твой Л.»
И все же — я и сейчас не перестаю удивляться Олегу, потому что после этого наступает не гибель, а возрождение, и хочется следить теперь не за историей его любви, а за его личным в этой любви ростом.
От письма к письму видно, как растет и крепнет духовное существо Олега: это уже не тот мальчик, который «строил на страх всему миру обитель». Это о. Онисим, усвоивший себя в таинстве Христу и быстро идущий к завершению жизни. Как преодолевает он свое личное страдание, восходя на новую ступень обладания скорбью, самообладания, он хочет теперь разделить все переживания своей сестры. Он отказывается от расчета на помощь мецената, ищет самостоятельный заработок, «он чувствует, наконец, в экономическом отношении почву под ногами».
Скорбь владеет им и ночью и днем, но теперь он не подчиняется ей: он в высшей степени, как никогда, деятелен во внешней жизни. Он пишет, учится, хозяйничает на участке.
Колебания — вместе ли строить жизнь или в полном одиночестве, для него окончились: «Устроиться без тебя было искушение в минуту слабости. Это — буддийская логика. Я буду возле тебя во всех твоих ошибках, на всех кривизнах твоих путей. Я хотел бы терпеть все с тобой до конца».
Он отвергает всякую попытку взаимно разжалобить друг друга: «Не смей страдать из жалости ко мне. Это в тебе та самая стихия, которую я ненавижу так же сильно, как люблю тебя. Для меня имеет цену только твое свободное убеждение».
Но самое важное, что он утвердился теперь в ясном сознании: его любовь — не «прелесть», потому что он любит «сестрицу свою после Господа» и исповедует это. Правда, он «слишком» любит ее, но это «слишком» — не слабость, потому что «любовь можно выровнять, только прибавляя там, где мало, а не убавляя, где непропорционально много».
Теперь он видит соотношение сил человеческих и сил промыслительных: «Если б я был святым, я стал бы изгонять из тебя бесов, или от тебя, от сердечка твоего дорогого… Но что могу сделать я, я бессилен тут, лишь Бог может изгнать». Олег проходит подлинную школу смирения, как бы устраняясь и предоставляя действовать силе Божьей — он смиряется в своей человеческой ограниченности и получает тут же, как дар, силу веры и терпения: «Я слишком мало в своем отчаянии явил веры Господу. И если приступы его прошли, то именно благодаря вере». Признание и своей, и моей слабости вооружает его непоколебимой верой в силу Божью: «Не попустит Господь этого. Он слишком любит и жалеет тебя, и путями, Ему ведомыми, вернет тебя».
Теперь, наконец, приходит к нему понимание, почему все случилось; он винит теперь не одну любимую им девушку, он понимает, что, если бы сначала ответил на ее призыв без страха и опасений, тогда, может быть, «нынешних страданий и не было бы…». И добавляет: «Но что говорить о минувшем, о настоящем станем думать». Он теперь не идеализирует свою Лялю, он приходит к прекрасной трезвости, свидетельствующей о духовной зрелости его души. Он понимает, что переоценивал мои силы, не смея думать обо мне, как о слабом существе, «нуждавшемся в ограждении, которое действительно было нужно». Теперь он жалеет не об абстракции, не о том, что «образ не удался», а о Ляле, живой и любимой: «Радость моя, ребенок мой единственный и вместе нож, который мне в сердце вонзили — ты, своей рукой — и не вынули».
Последние письма Олега — это бесконечное снисхождение и терпение, и, что дивно, непоколебимая, несмотря ни на что, вера в раз и навсегда увиденный им внутренний образ любимого существа. «У нас ведь было, как в романах бывает, что „он“ сразу увидел, что это „ты“ — для него. А у нас я сразу увидел, что „ты“ — для Христа. Девство — твоя сила и твое искусство… Это единственное, что ты можешь сказать людям», — пишет он мне. Он понимает девство как «высшую чистейшую собраннейшую, напряженнейшую действенность человека». Это — божественное свойство: «Первая Дева — св. Троица», — повторяет он слова св. Григория Богослова.
Он не сомневается: «Ты проснешься, обожженная страстью человеческой, отовсюду ты воскреснешь, только до чего измученная и измучив других (разумею — не себя)».
Даже получив известие о формально совершившемся моем браке, он с прежней уверенностью, как о решенном, пишет о моем грядущем постриге.
В последних своих письмах Олег становится прост необычайно. Он пишет о самых обыденных вещах: о своих занятиях садоводством, о встрече с новыми людьми, описывает их наружность, обстановку их внешней жизни, возможной, оказывается, и при аскетической жизни, то есть о жизни по форме «как у всех хороших обычных людей» — тема наших с ним поисков и споров. Он впервые серьезно беспокоится о моем здоровье. Терпением и верой пронизаны эти письма. В то же время они мужественны и строги. Он становится выше обычных чувств, столь, казалось бы, естественных при подобных обстоятельствах: ревности, осуждения. Он зовет к себе Александра Васильевича и не устает меня уверять в своей к нему любви: «Он мне близок и дорог, разве ты не видишь, что я его люблю?» Только один раз, в горькую минуту, он бросает по адресу Александра Васильевича отчуждающее «он».
Как далек он теперь от осуждения! Он внимательно и беспристрастно исследует и хочет понять причины совершающегося несчастья: «Нет осуждения тебе. Я вспомнил еще раз все, чем тебе обязан, и увидел, что не знаю, чем не обязан. А я для тебя не смог сделать ничего». Себе Олег не приписывает теперь никакой силы: «И без нашей встречи ты выбралась бы к пристани, не знаю, каким путем». Он как бы устраняется с моего пути, не отказываясь от меня, однако, до конца: «Я тебя всегда жду». Этими словами заканчивается наша переписка.
Пришвин не устает изумляться Олегу: «В результате чтения дневника многое понял непонятное в Ляле и Олеге, проникся уважением к Олегу. Он, по-моему, достиг в своем духовном развитии такого состояния, которое мне казалось недостижимым: самому, своим усилием победить чувственность, ревность, зависть и все прочее, связанное с чувственной любовью, и остаться торжествующим над своим жалким соперником» {188}.
Под конец жизни Олег получает, наконец, единственное, что всю жизнь жаждет для себя — «для безумной своей плоти» — полное и нерушимое целомудрие, как перерождение всего существа. Это был дар, перед которым он сам стоит в изумлении: «Все лето не было никакой брани… казалось, тот самый эфир, или что оно там такое, из чего сделан над нами небесный свод, что оно, это вещество, и на земле есть и пронизывает тело человека и дышит в нем». Дар этот он уже не относит ко мне: «Раньше оно бывало в связи с тобой, теперь как-то органически входит. Да укрепит Господь, чтоб не ошибиться».
Совсем недавно я выписала из книги современного автора, изданной в 1962 году в Париже: «Все мироздание стоит ради целомудрия. Все дышит и живет ради целомудрия. Все зачинается и растет ради целомудрия. Все болеет и беднеет ради целомудрия. Все страдает и умирает ради целомудрия — наивысшего осуществления его» {189}. Выписывая эти слова, я думала, что они не вмещаются в сознание современного мне человека. Так же, возможно, будет непонятен ему и смысл моих воспоминаний. Для кого я пишу их? для считающих себя атеистами? — еще непонятно; для христиан? — уже не нужно… Никому не нужный труд — и все же я должна его закончить.


























