Невидимый град
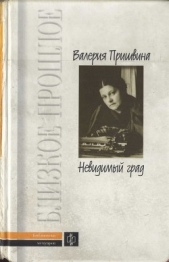
Невидимый град читать книгу онлайн
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письмо было не закончено и не послано.
Через неделю короткое письмо от Олега получила я.
«22 января 1928 года. Ответь, Ляля, что с тобой делается? О каком существенном для тебя деле думаешь одна — без меня? Чует мое сердце что-то недоброе. Места не нахожу, день и ночь мысль только о тебе. Скажи, не случилось ли чего с тобой 6/19 января около 4 часов дня? С кем-то близким что-то случилось.
Телесного страдания для тебя не боюсь так, как ошибок твоих в твоей собственной жизни. Ответь скорее, так как мучаюсь страхом за душу твою, ни о чем думать не могу, даже дышать трудно. Послал два заказных письма, ответа ожидаю. Господь да управит пути твои. Л.».
Вот что случилось со мной точно в тот день, о котором была написана эта отчаянная записка Олега: в тот день я дала Александру Васильевичу согласие стать его женой.
Под вечер я вышла на площадку нашей лестницы проводить его, уходящего от нас домой. Лестничные своды, не беленные с дореволюции, были тускло освещены. Лампочка высоко висела под грязным потолком, покрытая слоем никогда не сметавшейся пыли. Александр Васильевич привычно поцеловал мне руку и стал было спускаться. Потом неожиданно перемахнул несколько ступеней вверх и приблизил ко мне неподвижное, бледное, страшное новым выражением лицо. Все поплыло у меня под ногами. Потом до меня донеслись дробно стучавшие где-то внизу шаги: это убегал Александр Васильевич. Тут я услыхала собственный голос — только два слова. Я произнесла их совершенно спокойно, очень громко и отчетливо, не думая, что кто-то может услышать, всего два слова: «Я пропала!»
Слова гулко пронеслись по пустой лестнице. Я постояла, шаги внизу замерли. Я вернулась в комнату. Там никто ничего не заметил.
Сколько лет уже прошло, но я мысленно выхожу сейчас на ту площадку, становлюсь спиной к двери, лицом к убегающему вниз бедному моему замученному другу, вижу темные своды, пыльную лампочку наверху, слышу свой спокойно-отчаянный голос так ясно, словно времени, разделяющего мое тогда и теперь, не существует.
Тут можно было бы и прервать рассказ, не дописывая его окончание. Это окончание будет по существу описанием конвульсий утопающего человека. Не все ли равно — медленно или быстро он захлебнется, если ясно, что гибель его уже предрешена.
На следующий день пришло второе письмо Олега. Надо сказать, что письма шли тогда медленными почтовыми поездами. Прочитала я вечером это письмо и ворочалась без сна всю ночь.
«23 января 1928 года. Скоро уже две недели, как не могу превозмочь какой-то тревоги за тебя; и не о внешнем твоем благополучии, конечно, и оно ценно — но о состоянии души твоей. Вижу, что у тебя жизнь идет по двум линиям: тревоги и радости в связи с семейным разладом и заботы в связи с А. В. И ты сама писала, что последняя, главным образом, поглощает внимание, и боишься ответственности за него.
Твое второе письмо с загадочными словами о воле своей и воле Божьей, о „существеннейшем вопросе“ еще больше взволновало меня. Я понял, что ты вновь поддаешься прелести. Снова тебе начинает казаться, что твои мечты об ангельском образе есть твои хотения, а, может быть, Богу угодно, чтобы ты покорно несла ярмо супружеской жизни, кротко и молчаливо трудясь для мамы и А.В. А иначе он погибнет, и ответственность будет на тебе. Что же касается до меня, то это не помешает, так как „наша любовь божественная“, и „между нами не может быть никакая другая любовь“. Зачем написала ты эти слова, что значит „иная“ любовь? Разве стала бы ты говорить так по поводу любви к своей маме? Это подбавило мне тревоги.
Ляля, твой недостаток в том, что ты вмещаешь в себя столько, что не можешь с собой справиться, в тебе, вместе с девственным, есть и свойства женщины, и притом в особой недоброй форме — они очень глубоки. У тебя такая потребность в мужской власти над тобой (помнишь, в детстве: „Выйду замуж за моряка“), что и возлюбив Господа, ты и на Него перенесла свойства жестокого угнетающего Существа, воля которого обязательно должна переживаться как что-то раздавливающее тебя. Тебе хочется девства, а Бог хочет от тебя супружества. Ты не видишь, что тут происходит ужасная подмена: в тебе говорит женский атавизм, это воспоминание о вавилонском идоле, во славу которого каждая женщина обязана была однажды в год отдаваться неведомому человеку перед алтарем его… Я не говорю, что перед тобой стоит этот идол, нет. Ты по-настоящему веришь во Христа, но вследствие не испепеленной до конца падшей природы человеческой, демоническим образом в тебе проявляющейся, ты видишь Лик Христов, освещенным Мелеховым лучом, на Божественном Лике играют для тебя лукавые тени. Его искажающие …
Ты затвердила себе, что воля Божья обязательно должна быть тяжела, сокрушительна и идти наперекор высшим стремлениям человека. Ты забыла, что „иго Мое благо“, ты забыла, что во Христе воля человеческая хотела как раз того же, чего и Божеская, и через крещение и наша воля приобретает ту же способность. Что же, раз мне хотелось ангельского образа, значит, это своеволие? Ты забыла, что естество не способно хотеть девства, и если это хотенье есть, то оно только от Бога, и думать иначе, считать это веяние Духа Святого своеволием — значит высказывать самую страшную хулу на Святого Духа… Знаю, что ты ответишь на это: что ты и не сомневаешься в своем имени, но что нет иного выхода…
Ничтожны эти рассуждения, не бывает так, чтобы не было выхода. Сатана, не имея сил поразить тебя страстными помыслами, действует на тебя двумя путями: жалостью, возбуждающей страсть в друге, и состраданием в тебе, а также и чувством вины (его внушение!). С другой стороны — подменяя лик Христов, возбуждая женственную стихию покорности.
Ты забыла, что сказано:
„Благослови душа моя Господа…
— очищающего беззакония твоя,
— исцеляющего вся недуги твоя,
— избавляющего от нетления живот твой,
— венчающего тя милостью и щедротами,
— исполняющего во благих желание твое,
— обновится, яко орля, юность твоя“.
Так знакомы эти слова, и мы не обращаем на них внимания: „исполняющего желание“. Какое же? О девстве — обновлении юности.
„Первая Дева — Святая Троица“. Как же такому Богу может быть угодна жертва девством? Ляля, эта мысль тебе не простится, если до конца не покаешься.
Вспомни, что твоя особенность в том, чтобы ошибаться и грешить именно так, принимая „сатанинский гипноз“ за высшую волю. „Все ошибки свои я делала с Евангелием в руках… Я думала, что так надо…“ Но потом роковым образом раскаяние, почти отчаяние (опять сатанинское действие) и как план искупления — углубление в пропасть. Это ты ведь осознала, сказав, что твой предполагавшийся брак был бы завершением нисходящей линии. Но нет, ты готовишься сделать самую большую ошибку „с Евангелием в руках“. Детка, бедная, любимая, что мне придумать?
И вот ты надеешься именно на это, когда думаешь о браке — из жалости к любимому (бесстрастно!), в надежде на спасение его души… даже больше сказал бы я, не решился бы сказать, если бы сама не сказала некогда, что в твоих мыслях о браке имел значение и „страх за маму“. Это твои слова в письме. Прости меня, но мне кажется, что и теперь он является, неведомо для тебя, одной из слагающих. Тут в одном А. В. связались обе твои задачи: и мама и А. В., и как будто обе эти задачи решаются…
Странно мне и то, что ты ищешь волю Божью непонятным образом. Где ее искать, как не в Евангелии? Мало его — в житиях святых. В Евангелии обо всем этом не найдешь ничего: найдешь только заповедь о том, что возлюбивший кого бы то ни было больше Господа несть Его достоин…
А ведь ты знаешь, что у меня все поставлено на твое девство. Если оно просияет на Суде — и я с ним… Или ты думаешь, что таинство — было игрой?
Помнишь ли ты, что таинство брака заключает отречение от девства, от имени девы? Если ты отречешься от девства, я исчезну. Я не могу этого вынести. Я или умру физически — до этого недалеко, я ведь всегда „на грани“, и здоровье мое есть следствие настроения. Или же существование мое обратится в непрестанную пытку, и еще здесь я узнаю адские мученья.
Как-то я увидел картину „Опричники у земского“ {183}. Кажется, кого-то из передвижников. Опричники ворвались к боярину и хозяйничают. В комнате все перевернуто, разбросано. Посреди на полу — дочь боярина. С нее сорваны одежды, она без сознания или в исступленной неподвижности, равносильной смерти. Черная коса раскинулась по полу. Боярин привязан веревками к столбику кровати, и на лице его предел безумного отчаяния. Сын связан, лежит на постели, корчась в гневе и страдании за сестру, а два опричника за столом пьют вино. Мое состояние в случае твоего брака будет подобно состоянию этого отца, только растянется на остаток моей жизни и пойдет со мной в могилу.
Ты понимаешь ли, что твое падение по страсти я бы пережил, как бы это ни было трудно. Но это самонизвержение, якобы по воле Божьей, в жертву вавилонскому кумиру, при одной мысли об этом спирает дыхание и душат слезы ужаса.
Пытаюсь понять, как это все могло случиться? К тому, что уже написал об этом (пишу беспорядочно, не до порядка тут), добавлю следующее. Ты имеешь способность таять и изнемогать. Иногда и от меня. Я чувствовал это ясно… И от жалости, в особенности. (Вспомни вспышку любви, когда я собирался помирать от малярии.) А. В. пишет мне письмо, ты его поправляешь: таешь от жалости, от нежности к любимому, а он — кроткий, страдающий… и является мысль: а может быть, и в самом деле воля Божья? Вижу твое удивление им („письмо такое значительное и неповторимое“). Пусть так, но чувство остается. Это „таяние“ всегда вызывало во мне тревогу, даже когда оно направлялось по моему адресу.
Зачем же, зачем ты просила меня не умирать теперь, именно теперь, когда что-то столь ясное открылось между нами? А вслед за тем готовишь мне удар, который не знаю, можно ли пережить?
А что мне остается, как не отречься от тебя перед Богом, хотя это и значит потерять половину себя самого (как и ты недавно о себе говорила) и даже более. Но что же я еще могу сделать? Как при послушании старец отрекается от ученика, если тот не пребывает в повиновении, так и при взаимном послушании. Твое оскорбление будет слишком сильно, мне останется только… отвечать за одного себя — уже с единственной надеждой на милость Божью.
Ты скажешь: как же я так способен тебя забыть? Нет, забыть тебя я не могу. Но представь мое положение: сестра сознательно готовится ко греху, отвергает мой голос и думает, что исполняет волю Божью — что мне остается делать? Раз лик Христов освещен для тебя чуждым светом, могу ли я молиться вместе с тобой? Могу ли я имя твое носить в сердце? Конечно! если сестра покается потом, брат не отвернется, но каково будет ему это?
Знаю, что и Сережа, и особенно Арсений будут переживать подобное, хотя, может быть, и не так сильно, потому что ты сама говорила, что мы с тобой — одно существо, только с двумя вершинами.
Да, Господь не потерпит твоей измены. Он расстроит твои планы, покажет, что то была не Его воля. А. В. умрет, ты останешься одна с мамой и с ребенком на руках… И тогда раскаешься и придешь… если буду жив… Да не сбудется!
Ты связывала для меня действительность с миром святых. Были в древности Варвара, Екатерина, они похожи на сказку… И вот и в действительности нашел я точку опоры в тебе — видел в тебе отражение небесного девства. Помнишь пример мой „о единственном друге“, который оказывается изменником?
Ляля, милая, пока еще можно к тебе так обращаться, вот какие мысли носятся вокруг меня уже двенадцатый день. Что это за дни! Ни о чем больше не думаю. Часто казалось мне, что, если я на мгновение перестану о тебе думать, снова впадешь в транс — недаром жаловалась недавно на одолевающий тебя сон, умственный, душевный, физический. Кажется, что тогда снова загипнотизирует тебя Сатана. Грустная, детская мечта! Если бы я мог спасти тебя непрестанной мыслью о тебе, чего я ни постарался бы сделать!
Наибольшей напряженности моя тревога достигла 6/19 января, несмотря на то, что в тот день говел. Поднялся на гору. Было тепло, около 10 градусов, солнце светило вовсю, небо ясное, а я, казалось, нисходил до глубины скорби и тревоги за тебя… Или это все моя мнительность? А около 4 часов того же дня, как я тебе писал, понял я, что с кем-то что-то случилось, только не знаю что, и теперь не знаю — напиши. И верь, что за твое истинное послушание Богу Он и А. В. не оставит, а в противном случае и он может погибнуть, и ты.
Да, еще одна вещь: какая насмешка будет „мы с тобой“ как основа философии! Что же с этим делать — выбросить? Все рассуждения о поле, символы — все угаснет!
Или ты думаешь, что я еще кого-нибудь полюблю? Нет, Ляля, я ведь сказал тебе, что мне, по чину моему, подобало быть евнухом невесты Христовой, а если я ее не уберег, опыт, который был, может быть, однажды в истории мира, не удался. А знаешь ли, что если я к кому-нибудь имел не любовь даже, а теплое чувство, то это было все твое отражение, и после тебя еще раньше тебя угаснут всякие отблески твои. Ведь, кроме тебя, никто не мог бы разбудить во мне любовь.
Ну и довольно. Кончаю этот третий за короткое время памятник моей любви и ревности. Прости, прости, если оскорбил подозрениями, и прими серьезно, если хоть в чем-либо прав.
Верю, детка, что ты благополучно выйдешь из „искушения“. (Вот еще загадка: о каком искушении ты писала?) А осенью, надеюсь, увидимся и будем близко. Относительно же А. В. давай вместе посоветуемся: и первый шаг — это твое решительное ему слово.
Вот видишь, ты жаловалась, что я не указываю тебе твоих недостатков, — а теперь только поспевай защищаться. Ты писала мне о своей „порочности“, в которую я, к сожалению, не верю. Но теперь буду ждать, признаешь ли ты ее сама или нет?
Мама пишет, что была у тебя на Рождестве, но ты была нервна и напряжена. Что это значит? Спроси у мамы мое письмо к ней, там и тебе записка (а в письме к маме кое-что и на твое суждение есть).
Целую тебя, если ты верна заповедям Христовым и слову, данному Ему. Прости, что, будучи весь во грехах, забыл об этом и обличаю, ведь от любви к тебе, чтобы ты соответствовала тому образу, который имеет для тебя Господь — и да будет благодать Его с тобой.
Думал о том, по-христиански ли, что у меня так „все на тебя поставлено“? Разве не должен христианин опираться только на Христа? Но вспомнил, что Сам Господь явил нам подобный пример, когда сказан: „Ты еси Петр, и на сем камне созижду Церковь и врата адова не одолеют ю“ {184}.
Вот Он все ставит на человека, — да еще на того, которому, этому камню, предстояло поколебаться. В этом тайна любви, что любя не одного, можно на нескольких все основывать, то есть я на Господе и Святых Его, а из человеков — на тебе».


























