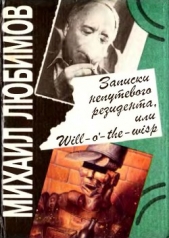Записки советского интеллектуала

Записки советского интеллектуала читать книгу онлайн
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Какая радость был этот лифт, восстановленный совсем недавно после разрухи и Гражданской войны! Кабина сверкала толстыми гранеными стеклами, в ней можно было и посидеть на красной бархатной скамеечке. На дверце — ярко начищенная медная дощечка с фабричной маркой: «Я. Л. Ландау, Н. М. Минц. Рига» (в те годы Рига была заграницей). За подъем брали гривенник, а нам, конечно, такой крупной монеты не давали (разве 8 копеек на трамвай, а мы, бывало, бегали пешком, выкраивая себе на мороженое). Но Семен, по доброте душевной, пускал нас изредка, если никто не видел, проехаться бесплатно. Поднимешься с ним на последний шестой этаж, а вниз он, как положено, едет один (насчет этого был строг). Ты же спускаешься на свой второй пешком, наслаждаясь полученным удовольствием и как бы даже продлевая его.
Вот не от этого ли осталось блаженное ощущение чистой, пустой, прохладной парадной лестницы? Каково испытать его почти через шестьдесят лет?
Резиденция Семена была на площадке первого этажа, где стояло старое-престарое кресло. И еще до 1924 года прикрепили к сетке лифта над дверью портрет Ленина. Мама возмущалась, а я, конечно, заступался за советскую власть: ведь и раньше, как я слышал, всюду висели портреты царя.
— Но не в швейцарской же! — сказала мама.
Да, в общем-то, редко бывали мы на парадной лестнице. Больше привлекал двор — типичный московский двор-колодец, куда редко заглядывало солнце.
Двор жил своеобразной жизнью. Всегда на веревках висело белье, кто-нибудь его сторожил и не позволял детям сновать между простынями. А мы занимались своими очень важными делами — играми, столь разнообразными, что и перечислить их нет возможности. Все они протекали в тесном общении — то дружественном, то недружественном — с ребятами из соседних дворов, которые можно было обежать все, не выходя на улицу.
Чугунная пожарная лестница нарочно не доходила метра два до земли (точнее, до асфальта: двор был асфальтирован, не росло ни травинки), чтобы дети не лазили по ней без нужды. К нижней ступеньке были подвешены кольца, приглашавшие к разумным упражнениям. Но отчаянные головы, вроде моего брата Вити, именно с помощью колец достигали первой ступеньки, а там уже взбирались на самую крышу. У Вити была идея, что те упражнения, которые можно делать на кольцах или используя как турник первую ступеньку лестницы, он может так же точно сделать и наверху, под карнизом, на высоте метров 40. Нередко в нашем коридоре звонил телефон. Звали маму:
— Надежда Александровна! Скажите Вите, чтобы спустился! Он кувыркается там на пожарной лестнице. А сейчас сел в самую воронку водосточной трубы. Смотреть страшно!
Мы тоже лазили, бывало, на крышу, но не столь поэтично. По черной лестнице поднимались на чердак и с большим удовольствием скитались там, среди стропил и кладок дымоходов. Через слуховое окно выбирались на железную крышу, подолгу жарились на солнцепеке. Витя и тут норовил пройти по самому краю пропасти (то есть карнизу), вызывая наш ужас и восхищение.
Нужно сказать, что эти прогулки очень пригодились лет через 15, когда настала война. Не только знание нашего чердака и крыши. Легче было ориентироваться при тушении немецких «зажигалок» также на чердаках и крышах университета.
Во дворе всегда было оживленно. В те времена множество торговцев, мастеровых, даже артистов искали заработка, переходя из двора во двор. Нам-то казалось, что все это были люди очень веселые — недаром они веселили других.
Вот вошел целый, как мы бы сейчас сказали, камерный ансамбль. Мы тут же решили, что это — отец с двумя сыновьями и дочкой. Крупный, массивный мужчина в черной войлочной панаме, он нес на спине столь же солидный, как он сам, инструмент — контрабас. У «сыновей» были скрипки, у «дочки» — бубен: она танцевала и пела. Исполнялись, в меру возможностей, разные пьесы — по большей части вальсы и «жестокие» романсы вроде знаменитой «Разлуки» [22] или только еще входившего в моду «Письма к матери» на слова Есенина. После двух-трех номеров «дочка» обходила двор с перевернутым бубном или шляпой. И сверху бросали медяки, иногда завернув в бумажку. Если музыканты были довольны сбором, концерт продолжался. Или же старший вновь продевал руки в лямки контрабаса и направлялся во главе своей труппы в соседний двор. Пожалуй, чаще заходили шарманщики, иногда со зверьками или птицей, тянувшей за несколько копеек предсказания, а то и с певцом или певицей — обычно детьми, как и мы.
Много было фокусников-китайцев, в заключение представления «заглатывавших» прямой, довольно длинный кинжал. Признаюсь, этот жестокий фокус всегда казался мне лишним. То ли дело, когда акробат ходил на руках. Заходили и поводыри с медведями, хотя их чаще видели на бульварах. Медведь показывал, «как зубы болят», «как девица в зеркальце смотрится» и прочие нехитрые сценки.
Но вот из-под арки ворот показалась лошадь, за ней — телега, совершенно черная.
— Во-от угли-угли! Угле-ей кому, угле-ей! — выкликает нараспев возница.
Казалось бы, зачем угли жильцам большого, теперь уже благоустроенного дома? А для утюгов, для самоваров! Электронагревательные приборы были тогда редкостью. Покупали углей понемногу, но бойко.
— Паяем кастрюли, примусы! Старые кровати починяем! — кричит мужчина с большой сумкой в руке. Это — металлист. И у него находятся клиенты.
— Тэчить нэжи-ножницы! Бритвы править! — и искры так и сыплются от ножа и вращающегося камня.
— Старья берем! — это слышалось, пожалуй, чаще всего. Раз десять на дню заходили во двор разные старьевщики с перекинутыми через плечо мешками. Это были настоящие санитары квартир. Чего только они не покупали, какой хлам не брали по дешевке! Занимались такой скупкой обычно татары — люди предприимчивые, но плохо говорившие по-русски. А может быть, притворялись, что плохо говорят, для облегчения торга. Во всяком случае, в своих выкликах они даже бравировали неправильным произношением: например, «Паривирю-ум!» должно было означать «старья берем», а «Ирю-ум парья!» — наоборот — «берем старья». Малышей даже пугали, что старьевщик заберет их в свой мешок.
Иногда появлялся какой-то коренастый мужчина в темной рабочей одежде. Этот обращался сразу конкретно:
— Оксю-уша! — Через некоторое время Аксюша отзывалась и что-то приобретала у него, но соблюдая некоторую таинственность. Поговаривали, что какое-то мясо, которого люди не едят. На корм домашним животным. Впрочем, эта маленькая тайна так и не была раскрыта на моей памяти.
Так текла изо дня в день жизнь нашего двора — и шумная, и спокойная одновременно.
Когда перестал я в ней участвовать? Должно быть, лет в 12, когда больше увлекся школьными делами. И сверстники мои тоже уж не бывали во дворе подолгу. И круг общения соседей стал уже: некоторые собирались по квартирам, с другими почти перестал я видеться. Но до сих пор, когда случается встретить кого-либо из «наших ребят», это человек близкий, почти родной. Сколько общих воспоминаний!
А наше парадное? Помню огорчение, когда какой-то ретивый управдом распорядился выкрасить барельефы в яркие цвета — синий, оранжевый, даже золотой. Представляете, как выглядели модные в старину античные их сюжеты!
Но настоящая беда пришла позже. Взрывная волна покорежила двери и окна, засыпала подъезд и все квартиры осколками стекла. Была глубокая осень, и когда строительный батальон «зафанерил» наш дом, дом на несколько лет погрузился в небытие — мрак, холод, безлюдье.
Ленинград, 25–28 июня 1982 г.
Родительский дом
Случилось так, что о нашем скромном жилище мне напомнили в роскошной барской усадьбе. Напомнили с нежностью…
Кажется, первый раз в жизни я побывал тогда в Узком. Однажды во время обеда вошла женщина, чем-то удивительно напомнившая давние дни. Неужели — Люба Лазарева? Так сказать, бывшая родственница — первая жена моего кузена Бори Гейликмана.