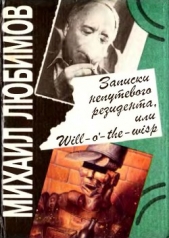Записки советского интеллектуала

Записки советского интеллектуала читать книгу онлайн
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И наш дом никогда не оскудевал гостями. Одно из первых воспоминаний об этой квартире — великолепный дуэт тети Раи и дяди Николая Андреевича — очень красивое меццо-сопрано и сочный мощный бас. Под аккомпанемент отца они поют «Горные вершины» [30]. В свободные минуты папа играл и один. У него была какая-то особенно милая, мягкая манера исполнения. Часто приходила Мария Семеновна Шор — родственница знаменитого пианиста Давида Шора. Они с папой играли в четыре руки — не всегда специфически фортепианные вещи, часто — «клавиры» — переложения для фортепиано. Например, шестой квартет Бетховена до сих пор звучит в моих ушах в их исполнении — на фортепиано. Играл папа и с Александром Васильевичем Куприным, который даже посвятил ему один из своих романсов. У нас пел Александр Львович Каченовский, играл ребенком Леня Ройзман и, конечно, Шура Мипоз.
Собирались, бывало, и родственники, и добрые знакомые родителей, а когда мы подросли, то стали приводить и своих друзей. Нам никогда не запрещалось приглашать кого бы то ни было домой — мальчиков или позже — девочек. И это было, думается, весьма мудро — уберегало нас от сомнительных знакомств и «гуляний» вне дома.
Что мы делали, собравшись?
Прежде всего много разговаривали, затевали общие споры — о политике, о литературе, о музыке. Тут бывало «жарко». Особенно сердился иногда папа — он был очень вспыльчивый, но «отходчивый» и добрый, отругав кого-нибудь из нас «на все корки», вскоре начинал «подлизываться», жалеючи.
Танцевали — тут уж «таперили» [31] все, кто мог. Но больше всего играла бабушка — старинные галопы, вальсы, польки… полька-бабочка была как бы нашим семейным танцем. Ее танцевали родители (отец, как многие тучные люди, был очень легок в танце), и мы все трое обучали своих девушек обязательно. А фокстроты и танго бренчали мы с Витей. И, конечно, как в детстве, пели на два-три голоса. Солировать мог только Костя.
Очень любили играть в разные игры — особенно в те, где можно было «представлять», — шарады и «качества». Шарады ставили без сложного реквизита, но очень «натурально». Помню, изображая «отел», мощный Сема Алексеев накрылся одеялом, стал на четвереньки и изо всех сил ревел, пока из-под него не выбрался длинноногий, тощий Боря Гейликман и, пошатываясь, как настоящий теленок на неуверенных ножках, опрокинулся на диван. От смеха покатывались и зрители, и исполнители. Словом, установка была не на то, «чтобы ты не угадал», а на то, чтобы сыграть посмешнее. В «качества» теперь что-то не играют, а было очень интересно угадывать слово, разбитое на буквы, на каждую из которых один из участников изображал какое-нибудь качество человека (скажем, слово «КОТ» — «кокетливость» — «обжорство» — «трусость»). Качество надо было в разговоре раскрыть достаточно, но не слишком уж ясно. В этой игре папа был непревзойден.
В те трудные годы гостей все же принято было угощать ужином, хоть к еде не предъявлялось никаких претензий. Чай бывал «кронштадтский», то есть жидкий-прежидкий, спиртное — только по большим праздникам и то понемногу.
Некоторые гости запросто оставались ночевать — и мы стелили тут же на полу. На полу в нашей столовой ночевала одно время и молодая Костина жена Нина.
Друзья любили наш дом и охотно приводили к нам своих друзей. Так однажды и Боря, которого считали у нас «красной девушкой», появился, помнится — как раз на мое рождение, с миловидной, полной блондинкой (это и была Люба — та самая), и мы поняли, что тут ему, как говорится, и славу поют. И в самом деле, скоро они поженились. Однако ненадолго.
В нашем доме было весело почти до самой войны. Но в последние предвоенные годы тучи кругом все сгущались. Да и поразъехались многие: Витя с Аней, кончив институт, получили назначение в Верхнюю Салду, Боря после аспирантуры — в Йошкар-Олу…
А там — этот гнетущий союз с Гитлером и финская война…
А в октябре сорокового не стало папы. И нашего дома вскоре тоже. Бомба в октябре сорок первого довершила это лишь физически.
Москва, 1 января 1973 г.
Давний знакомый
Так робко набегает тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.
Ах, этот старик-фонарщик из сказки Андерсена [33]!
Тот, что, уходя на покой, взял с собой старый фонарь, который начал службу вместе с ним самим.
Почему из всех андерсеновских героев был он мне едва ли не самым близким? Почему не мог я без волнения читать (в который уже раз!), как провожали фонарь на покой звезды, ветер, капли дождя, как в день рождения фонарщика и фонарь снова оживал. Начищенный до невероятного блеска, получив свою порцию масла, он наполнял тихим светом каморку хозяев и рассказывал удивительные истории.
Может быть, все это волновало меня потому, что, хоть никогда не знал я именно такого старика, образ его был близок. Ведь и я в детстве видел похожие фонари на московских улицах.
Кто не знает прелести той поры, когда свет дня угасает, а темнота вечера еще не наступила? В наших широтах этот краткий час хорош в ясную погоду и зимой, и летом. Как-то не хочется называть его обычным словом «сумерки», и даже жаль жителей юга, которые почти не знают этого предвечернего света. День мягко прощается с нами, и так легко, так спокойно на душе.
В это время неизменно появлялась на улицах знакомая фигура фонарщика. Нет, это не был андерсеновский старик, по крайней мере в нашем районе. Это был плотный мужчина средних лет в картузе и не слишком-то начищенных сапогах.
В арбатских переулочках, что причудливо впадают друг в друга, фонарщик нес на плече небольшую, но, видимо, увесистую лесенку (тогда их еще не делали из алюминиевых труб). Поворачивая вдоль тротуара от фонаря к фонарю, он приставлял свою лесенку, поднимался и зажигал огонь.
А на большие улицы фонарщик выходил с длинным-предлинным шестом, торчавшим косо, как гигантское удилище. Он шел обычно в гору, от Гоголевского бульвара к Дому ученых. Дома уже не отбрасывали длинных теней. Улица нежилась в ровном, неярком свете. У каждого столба фонарщик останавливался и, поднимая обеими руками свой шест, делал короткое движение, что-то невидимое нажимая или поворачивая. И один за другим над улицей зажигались голубоватые газовые шары, даже не слишком заметные, так как день еще не ушел.
Впрочем, наверное, я видел лишь начало маршрута нашего фонарщика, а заканчивал он свой обход, должно быть, уже затемно.
Годы шли, и я не заметил, когда именно исчезли в Москве фонарщики. В дни моей юности невидимая рука включала где-то рубильник, и по всей улице, уже изрядно потемневшей, сразу вспыхивали электрические фонари.
Все же фонарщик оставался где-то в уголке памяти, и, может быть, я подсознательно считал, что это он, постаревший, встречался мне на страницах любимой книги. И казалось, что уже нигде, кроме этих страниц, фонарщика больше нет.
Но вот уже немолодым человеком в прохладный августовский день 1965 года шел я через Златую Прагу.
Только что кончился дождь, и среди разбежавшихся в разные стороны облаков утвердилось солнце. Оно клонилось к закату; косые лучи не вдруг высушили камни тротуаров. Широкая новая улица поднималась в гору. Позади остался квартал мрачноватых серых домов, построенных, видимо, в двадцатых-тридцатых годах. Впереди зеленел парк пражского Града.
Войдя в парк, я сразу как бы переместился и во времени, отодвинулся на несколько столетий назад.
Вот и колоннада Летнего дворца. Сквозь нее, как сказочный замок детства, виден Град с его приземистой серой стеной и башнями. Полыхающие желто-красным цветники окружают старинный зал для игры в мяч. На соборе Святого Вита в причудливой тени каменных завитков притаились страшноватые, но чем-то забавные «химеры», а за его серой громадой — белый, стройный собор Святого Георгия, или, как здесь произносят это имя, Иржи. Две башни его уперлись в бледно-голубое небо.