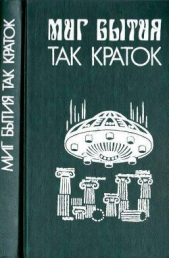Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Примерно в то же время в кружке произошел еще один скандал. Некто Яша Щур, скорей журналист, чем поэт, вежливо попросил у Пересветова слово — и прокричал несколько лозунгов и воззваний в честь оппозиционных «истинных ленинцев». [45] Перепуганный Пересветов снова вызвал милиционера.
Дело было посерьезней Жениных выбрыков. Руководителю кружка, беспартийному старому учителю, строго попеняли: на занятия часто приходят посторонние люди, устраивают антисоветские митинги — не пора ли немного прикрутить гайки? И Пересветов спешно их прикрутил. Отныне вольное хождение воспрещалось, каждый должен был заносить свою фамилию в специальный лист, лежащий на столике у входа, перед занятиями зачитывали все имена, чтобы выяснить, не пробрались ли на идейно выдержанное собрание одиозные фигуры или чужаки.
Настал мой черед хулиганить.
У меня имелся забавный сборничек «Русские остряки и остроты их», начинавшийся издевками Балакирева, шута Петра Великого, и кончавшийся анекдотами об остроумных людях прошлого века. Среди них был и рассказ о лицеисте Пушкине. Француз Трико, лицейский воспитатель, строго-настрого запретил своим подшефным покидать Царское Село (сторож должен был записывать отлучившихся). Однако Пушкин с Пущиным нашли способ обойти этот запрет. Пушкин подъехал к вахте и, не сходя с коня, крикнул: «Однако!» — вахтер внес фамилию в свой кондуит. Вторым появился Пущин и представился: «Двако». Сторож засомневался и покачал головой, однако записал и это имя. В это время француз узнал о бегстве учеников, вскочил на коня и помчался в погоню. Когда он крикнул: «Трико!», охранник рассвирепел:
— Однако, Двако, Трико! Вот я покажу вам, как озорничать!
И посадил бедного воспитателя в кутузку — там его и нашло прибывшее на выручку начальство. А Пушкин с Пущиным славно погуляли в Питере.
Я полностью передрал этот сценарий.
В нашем классе учился Кучер, отличный паренек (именно он вскоре уехал с родителями во Францию и впоследствии стал профессором Сорбонны). Нужна была еще одна подобная фамилия. Она нашлась — Телега. Все остальное было просто. Мы с приятелем записались под соответствующими именами. Пересветов, начиная занятие, зачитал список присутствующих: Кучер, Телега, Колесо, Дышло… Зал взорвался хохотом. Потребовали закрыть двери и проверить документы. Проверка показала наличие и Кучера, и Телеги, — дальше допытываться не стали: люди входили и выходили — поди разберись, были среди них Колеса с Дышлами или нет…
Занятие было сорвано — чего мы и добивались.
6
Время было странное — и мы были странные.
Возможно, никогда раньше не воздвигали такого множества ветряных мельниц и не появлялось такого количества фанатиков, кидавшихся на героическую борьбу с ними. Кинотеатры перестали называться иллюзионами — но в иллюзион превратилось само общество. Головы кружились от бредовых идей и галлюцинаций, людей сводили судороги пламенной борьбы с тенями. Правительственные идеологи объявили себя материалистами, но, пренебрегая материальным миром, энергично боролись за призрачное господство в царстве фантомов. И никогда еще так мощно, как дикая зелень из плодородной земли, не перли из народных недр таланты и дарования. Недавняя революция обернулась двуликим Янусом — щедро культивировала человеческие способности, которые потом душила.
Одно из таких горячих сражений с идеологическими ветряными мельницами близко коснулось и меня — и в немалой степени определило мою реальную жизнь. В философии разгорелась дискуссия — и я не смог остаться в стороне. Конфликтовали механисты и диалектики. Жестокий этот спор и яйца выеденного не стоил — так показало неотвергаемое будущее. Но в двадцатые годы философская полемика казалась не иллюзией, захватывавшей ум и терзающей душу, а вполне реальным делом — той самой идеей, которая, по гениальному определению Маркса, умевшего под идеологический сумбур и неразбериху подводить убедительные основания, превратилась в материальную силу. Гегель когда-то пошутил, что можно доказательно обосновать любое утверждение — и потому все, что в мире есть испорченного, испорчено с добрыми намерениями. Именно это и оправдывалось в яростной схватке механистов и диалектиков. О чем они спорили? Это трудно четко обозначить — в принципе, речь шла об очередной фата-моргане. [46] И те, и другие соглашались, что они материалисты и даже воинствующие атеисты. Но материализм одних (механистов), опиравшийся на законы естественных наук, был примитивен — и эту их слабую сторону соперники хорошо разглядели и ловко раскритиковали. Вторые верно служили новой доктрине — материалистической диалектике. Беда в том, что она тоже была фикцией. Несколько здравых идей о противоречиях в любом развитии, о соотношениях количества и качества — и все… Слишком мало для настоящей науки!
Зато в дискуссии непрерывно поминались великие имена: Декарт и Спиноза, Кант и Гегель, Фихте и Шопенгауэр, Шеллинг и Ницше… В тяжеловесной книге лидера диалектиков Абрама Деборина «Введение в философию диалектического материализма» (среди адептов она стала библией) трактовались важные вопросы — меня это привлекало. Я увлекся — на всю жизнь — пантеизмом Спинозы, читал и перечитывал Гегеля, даже его труднейшую до невразумительности «Феноменологию духа», задумал соединить с материалистической диалектикой некоторые идеи Лейбница. А поскольку я к тому же самостоятельно изучал анализ бесконечно малых величин (дифференциальное и интегральное исчисление) и продолжал увлекаться физикой, то в моем несозревшем мозгу родилась грандиозная и, мягко скажем, самонадеянная идея: я решил создать новую науку, соединяющую материалистическую диалектику, математику и физику. Я назвал ее «Системой исследования» и стал усердно заполнять тетрадь новыми законами мироздания — скоро выпочковалась целая карандашная книга.
Достоевский как-то сказал: «Покажите вы русскому школьнику карту звездного неба… о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». Я, вероятно, был похож на этого самонадеянного мальчишку.
Впоследствии я писал о тогдашних своих увлечениях:
Мне казалось, что я окончательно определил свою ближайшую задачу: сделать из схематичной материалистической диалектики настоящую науку, для чего добавить к старым ее законам (отрицания отрицания, перехода количества в качество и единства противоположностей) законы новые (предварительно, разумеется, оные разработав).
Осуществление этого фантастического плана не мешало другим, более реальным делам. Среди них было много насущных — например, заставить Генку Вульфсона заняться изобретениями по-взрослому серьезно (себя самого я, конечно, считал очень серьезным).
В то время Генка интересовался проблемой реактивной отдачи. Может быть, определенную роль в этом сыграл его соученик по профшколе № 3 Валентин Глушко, [47] а может, это была собственная Генкина идея, но он принялся разрабатывать снаряд, снабженный дополнительным ракетным ускорителем.
— Все дело, Серега, в скорости, с какой бронебойный снаряд ударяет в цель, — объяснял он. — Ее можно усилить за счет отдачи, если в снаряд встроить небольшой запал, который взрывается в момент попадания или за микросекунды до того. Все расчеты я сделал, конструкцию прочертил — надо построить модель.