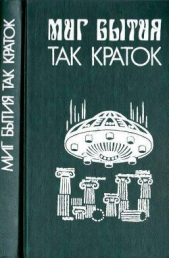Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ух, даже мне легче стало!
Девушка рухнула в кресло как подкошенная. Зал хохотал минуты две — хохотал и бурно аплодировал.
Маяковский еще несколько дней пробыл в Одессе, но мы не осмелились прийти к нему в гостиницу.
Когда я думаю об одесских литературных сборищах, я вспоминаю не так стихи, как озорство и даже скандалы, граничащие с хулиганством, которое в двадцатые годы стало знамением времени.
Об этом я должен поговорить подробней.
Не знаю, виновна ли революция в этой вспышке, — шла свирепая междоусобная война, совершались дела куда пострашней банального хулиганства. Преступления стали бытом. В нашей семье долго хранилась книга Реми, известного карикатуриста аверченского «Сатирикона». На одной карикатуре («Кто как понимает») слева, на фоне небоскребов, стоял худощавый американец. Руки в карманах, гордая надпись: «Меня никто не ударит, у нас свобода». А справа виднелся покосившийся кабак, около него — пьяная фигура, торчащие из карманов бутылки и свирепая фраза: «Кому хошь врежу в морду — у нас свобода!» Какая-то доля правды в этой художественной констатации была.
Хулиганство, густо выплеснувшееся на улицы, было формой варварской вседозволенности — своеобразно понятой разновидностью свободы. В начале двадцатых по улицам маршировали нудисты, голые мужчины и женщины. Шествие их иногда сопровождалось музыкой — и всегда хохотом, улюлюканьем, свистом, сердитой руганью и восторженным матом. Касьян Голейзовский (в те годы — уже знаменитый балетмейстер) выпустил на сцену обнаженных женщин — всенародного одобрения не обрел, но танцовщиц, которые охотно согласились раздеться, нашел.
Людям, негодующим на безобразия, творимые нынешней молодежью, советую как-нибудь проглядеть газеты раньшего, по выражению Паниковского, времени — они предоставят материал куда посильней.
Бесчинства катились по стране, формы их были многообразны: от простительных в общем-то проказ — до отвратительных преступлений. В Ленинграде, почти в центре города, в сквере, орава из трех десятков мужчин в один из праздничных вечеров поймала молодую женщину — ее насиловали всем скопом, несколько часов подряд. Процесс «чубаровцев», как их поименовали по месту преступления, подробно живописался во всех газетах.
Не бывало дней без драк и поножовщины — чаще всего в садах и скверах, на задворках, во время гуляний. Случалось, на улице группка из двух-трех подростков нападала на случайного прохожего (чаще всего — смирного), быстренько колотила его и умело смывалась. А потом гордились, что так ловко «обработали» какого-то «чудика». Хулиганство стало чуть ли не доблестью, им хвалились как подвигом (в своем кругу, разумеется).
Этот ореол быстро поблек, когда правительство сообразило, что бесчинствующую молодежь можно направлять на разные стройки — бесплатно искупать свою уличную храбрость. Уже возводились первые лагеря — для них требовался «контингент». А в тридцатые годы хулиганство как социальное явление было начисто задавлено — даже отчаянные храбрецы трусливо маскировали свою уличную браваду.
Но в конце двадцатых оно процветало. На Колонтаевской, в квартале от нашего дома, в иллюзионе «Слон» часто гасло электричество. Если это происходило днем, когда в кинозале было больше молодежи, чем взрослых, какой-нибудь голос пронзительно возвещал из темноты: «Умер Максим!» И зал мгновенно, мощным хором, откликался: «Ну и хрен с ним!» Тот же пронзительный голос продолжал: «Положили в гроб». Хор оглушительно ревел: «Мать его…». Дальше шла абсолютная похабщина и матерщина — под отдельные негодующие возгласы, возмущенный визг девушек и радостный хохот большинства. Это продолжалось, пока не зажигался свет или не прибегали разъяренные общественные охранники.
Издевательство над неведомым Максимом иногда подменялось куплетами чуть пристойней. В этих случаях ревел уже весь зал:
«Сказание о Максиме» устраивалось преимущественно в кинотеатрах Молдаванки, Пересыпи и Бугаевки — рабочих окраин Одессы. И прекратились оно, сколько помню, когда в Россию вернулся Горький. Случайно или намеренно, но умершего фольклорного героя прочно привязали к писателю — это была уже политика, а политики начинали побаиваться. Однажды в том же «Слоне» запели «Максима» — и чей-то грозный голос прокричал в темноте: «Кто материт Максима Горького?» «Максимиада» мгновенно оборвалась.
Впрочем, на других формах хулиганства приезд Горького не сказался — куда действенней была политика правительства, отечески опекавшего свои трудовые лагеря.
Удивительно, но жизнерадостные эти бесчинства, как правило, воспринимались доброжелательно, даже поощрялись — конечно, если они не переходили в прямые преступления. Одесса всегда была веселым городом. Хулиганов здесь считали шутниками, которые слегка перестарались с дурачествами. Без забавных выдумок городская жизнь была немыслима.
В те годы по центральным улицам слонялся рослый беспризорник примерно моих лет по прозвищу Юдка Перекопец. На перекрестках он картинно застывал и зычно ревел гимн новым технологиям:
Авторство приписывали Демьяну Бедному. Если это так, то в Одессе классик пролетарской литературы завоевал гораздо большую популярность своими разбитными стишатами, чем идейно-боевой серятиной — не было человека, который не знал бы этих строк. А Юдку Перекопца одаривали хохотом и медяками, а иногда и чистым серебром — Госбанк расщедрился к этому времени и на серебряные полтинники.
Юдка обыгрывал и недавно прославившегося — сначала в Одессе, а потом и во всем мире — кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, создателя фильма «Броненосец Потемкин», а заодно и гремевшего в России Сунь Ят-Сена, скончавшегося в середине двадцатых вождя китайской революции. Куплеты эти были собственной Юдкиной «рубки» и начинались так:
Остальное на бумаге невоспроизводимо. Одесскому гамену [44] эпохи нэпа бурно аплодировали за любые скабрезности, если в них звучало искреннее веселье. Однажды (это было недалеко от нашего дома, на бывшем толчке) я увидел, как он сердито кричал на внимавшую его импровизациям толпу:
— Граждане, что вы даете? На мамалыгу с черным хлебом? А на папиросы с пивом? А на водку и девочек? Хотите, чтоб рассердился и пошел всех кусать? У меня же с самой гражданской сифилис в каждом зубе, вы же этого не перенесете, у вас же у каждого приличные жены, по одной старой на плохого, по две молодых на хорошего. Чего всем желаю!
Угроза вызвала взрыв хохота, в Юдку полетели пятаки. Он ловко увертывался, однако несколько монет попали ему в лицо. Он радостно ругался, складывая добычу в бездонные карманы — единственную не рваную часть своей одежды.
Помню еще одну уличную забаву. Была середина нэпа, одесский порт почти полностью возродился. Во всех пяти его гаванях, недавно пустых и мрачных, швартовались солидные суда, между ними сновали портовые катера. Матросы, выходя в город, в серьезные стычки с милиционерами не ввязывались, что, впрочем, не мешало им устраивать на главных улицах — Екатерининской, Дерибасовской, Преображенской — безмолвные представления. Облюбовав какую-нибудь женщину, они гуськом шли за ней, не приставая и не разговаривая, — этакий хвост человек в десять. Несчастная скоро замечала преследование (о нем возвещал хохот прохожих) и перебегала мостовую, пыталась скрыться в подворотнях и магазинах — это почти не помогало: отброшенный было хвост выстраивался по ранжиру и терпеливо ждал, когда жертва осмелится выбраться наружу. Я был свидетелем, как в это развлечение вмешался постовой. Увидев мореманскую змею, ползущую за какой-то нарядно одетой дамой, он остановил головного матроса и грозно приказал: