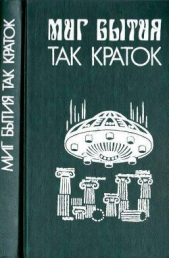Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хорошо, идемте! — согласилась она.
Когда мы выходили, нас задержал Лымарев. Он кое-что слышал о Журавлевке — там посторонним лучше и днем не появляться, а сейчас ночь. Он пойдет со мной. Я сообщил: когда я с девушкой, то смерть не терплю, если между нами появляется чужая рожа. Третий недопустим, согласился Лымарев. Они с приятелем будут далеко позади. Поцелуям, если мне повезет, это не помешает, а в случае опасности — подмога!
Журавлевка была местечко как местечко — одно- и двухэтажные (редко — повыше) домики. В каждом не двери, а ворота — и все закрытые. На широких и немощеных — в густой пыли — улицах ни одного человека, окна темные: здесь, в отличие от шумной и сияющей Сумской, ночь начиналась рано. Я украдкой оглянулся. Лымарев с другом шествовали метрах в двухстах.
— Я живу здесь, — сказала девушка и громко постучала в ворота.
— Не торопитесь, поговорим, — попросил я.
Она не успела ответить. Из пустоты внезапно материализовались два парня. Один скорбно произнес:
— С чужими гуляешь?
Ворота открылись. Девушка проворно юркнула в дом. Я запоздало крикнул «До свиданья!» Мои приятели были еще очень далеко. Скорбящий предложил — вежливо и недобро:
— Поговорить надо, парень.
— Лучше в другой раз. — Я попытался отойти.
Второй, молчавший, жестоко ударил меня. Я упал. Из носа на белую рубашку хлынула кровь. Говорливый наклонился надо мной.
— Не будем отлеживаться, хлопче. У нас принцип: лежачего не бьем, а вдавливаем ногами в землю.
Друзья уже бежали к нам, но были еще далеко — журавлевцы вполне успевали обрушить каблуки на мое лицо. Нужно было подниматься. На этот раз меня не удалось свалить с одного удара. Но противников было двое — и я снова упал. Упал — и схватил за ногу одного из нападавших, чтобы он не удрал: помощь была уже близко.
Мой пленник отчаянно вырывался — ему это не помогло: спасители звезданули его по «кумполу» — и журавлевец притих и смирился с неизбежностью. Обездвижили и второго. Лымарев посмотрел на меня (рядом, на столбе, болталась одинокая лампочка) и расхохотался.
— Вся твоя рубашка — пыль пополам с кровью!
Я поднялся и, с трудом выдавливая слова, хрипло сказал:
— Жгучий вопрос современности: что делать с этими неудачниками?
Лымарев всегда находил быстрые решения. Он обратился к побежденным.
— Ребята, мы, одесситы, народ культурный — и поступим с вами по-культурному. На Сумской я видел отделение милиции. Вот туда вас и сдадим — пусть разбираются.
Один из пленников чуть не взвыл.
— Будьте людьми! Делайте, что хотите, но не в милицию! Там же Беломор, лесоповал… Не губите!
Озадаченный Лымарев поинтересовался:
— А что предлагаешь? Отпустить?
— Зачем отпускать? Нет, я по-честному. Мы ему юшку пустили? Бейте и нас до крови, слова не скажем. Чтобы полная отместка. — И журавлевец коварно добавил: — Еще неизвестно, как в милиции к вам отнесутся. Чужие в городе, ночная драка — могут и прихватить.
Первым ударил я. Видно, от пережитого кулак мой «перегорел» — парни поочередно охнули, но крови не было. Зато дюжий Лымарев выбил юшку из обоих — не то из носа, не то из зубов (впрочем, ее было поменьше, чем на моей рубашке). Третий наш приятель добавил, а Лымарев расщедрился на поучение:
— Значит, так, ребята. Вы с Журавлевки, мы с Молдаванки. У нас мостовые мощеные, а не земляные, как у вас. И лупят у нас чужаков покрепче — потому что кулаки посильнее и света на улицах больше. Совет: будете в Одессе, обходите Молдаванку. Признают — бока намнут, а не признают — ноги повыдергают, чтобы не шлялись в заповедном нашем раю.
Один журавлевец, прощаясь, поблагодарил:
— Спасибо, ребята, что по-человечески. Мы — ему, вы — нам. Жуткое дело — попасть к этим гадам в милицию!
Мы, остыв, тоже порадовались, что обошлись без нее.
Так вот, общий дух распущенности коснулся и школ (правда, дуновение это было из легчайших). Мы не резвились, как обычные дети в обычные времена, — мы куролесили, а иногда опасно буйствовали.
В свободное время я приходил к Генке (он учился в Металлшколе № 3 на Старопортофранковской). Являлись и Фима, и Моня Гиворшнер, и Моня Гайсин. Разговаривали, спорили, ели фрукты из Гениного сада, а под вечер ходили «проветриваться».
Когда проветривались на окраине Молдаванки, свободы было больше. Где-нибудь заводилась свара — мы встревали, попадалась чужая драка — лезли в нее, не разбираясь, почему машут кулаками. Потом хвастались: «Знаешь, меня тот носатый чудак так тяпнул по шее! Ну, я ему тоже навернул под дых — аж завизжал».
Если гуляли в городе, приходилось смиряться — здесь драчунов не жаловали. Зато развлечений на этих нарядных, хорошо освещенных улицах было побольше. Иногда мы покупали билеты в кино, затем прятали их и пытались всем скопом проникнуть в зал — якобы на халяву. Порой это удавалось — и мы, разочарованные, садились на свои законные места. Чаще в дело вступали общественные охранники — и тогда разыгрывался спектакль: мы вырывались и кричали, нас тащили и выгоняли, иногда смазывали по шее — и мы вдохновенно отвечали ударами на удары.
Обычно кончалось тем, что нас силой доставляли в дежурку — и там мы возмущенно предъявляли билеты ошарашенным конвоирам и администратору.
— Вот же хулиганье! Хватают, ничего не спрашивая. Мы говорим: билеты есть, все честь по чести, а они — за шиворот! Будем жаловаться в милицию.
Администратор извинялся и разрешал с теми же билетами идти на следующий сеанс (наш-то уже давно шел), смущенные контролеры все же находили в себе мужество грозить, что в другой раз подобные шутки нам выйдут боком. Впрочем, два раза подряд в один кинотеатр мы не лезли — нас быстро запоминали.
Мы буйствовали коллективно. Женя Бугаевский, рьяный индивидуалист, устраивал развлечения не так индивидуальные (они тоже требовали соучастия), как типично индивидуалистические. Некоторые из них приобретали известность и прибавляли ему популярности.
Однажды дома, в компании приятелей, Женька громко скандировал нашего с ним любимого поэта — Бориса Пастернака и смертно всем надоел. Я злился: Пастернак не Кирсанов и не Маяковский, его стихи нельзя кричать. Но Женя мало считался с чужими мнениями. Он продолжал вопить — это было безвкусно и почти непристойно. Владимир, который часто и охотно дрался с братом, попытался его усмирить: «Иди на улицу и кричи!». Вмешались и гости — но вышвырнуть Женю не удалось.
Тогда Володя (ему помогали приятели) связал поэтического охальника, пропустил веревку у него под мышками и вывесил на улицу. Женя болтался между двумя этажами и, неусмиренный, орал Пастернака. Соседи высовывались из окон, дабы прекратить шум, но — истинные одесситы! — принимались хохотать и аплодировать. Женя, воодушевленный успехом, надсаживался изо всех сил. И когда уставший брат вместе с гостями втаскивал его назад в комнату, он отбрыкивался и вырывался, но уже не кричал — голоса не было.
Вслед за этой выходкой последовала другая. Старец Пересветов, платный руководитель молодогвардейского кружка, объявил о грядущем обсуждении стихов Бугаевского. Женя долго готовился к своему творческому вечеру: достал (кажется, у тетки) женскую ночную сорочку, украсил голову чепцом, раздобыл длинную, выше головы, суковатую палку — и в таком не то покойницком, не то библейски-патриархальном облике явился в зал. Он стоял на возвышении и, стуча посохом, пытался перекричать хохот, свист и топот. Вызванный милиционер (в редакции «Черноморской коммуны» всегда дежурили стражи порядка) вместе с чуть не плачущим Пересветовым разогнали неудавшееся заседание.
Облаченный в ночную сорочку Женя, постукивая посохом, удалился в свой Покровский переулок. Мы провожали его и хохотали. Он был каменно серьезен.
Потом я спросил, зачем ему понадобилось это шутовство.
— Не шутовство, а разъяснение, — парировал он. — Мои стихи настолько необычны, что даже знаток не всегда разберется. Особая одежда подготавливала слушателей к особости произведений.