Без выбора: Автобиографическое повествование (с илл.)
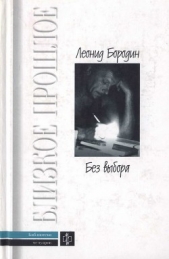
Без выбора: Автобиографическое повествование (с илл.) читать книгу онлайн
Автобиографическое повествование Леонида Ивановича Бородина «Без выбора» можно назвать остросюжетным, поскольку сама жизнь автора — остросюжетна. Ныне известный писатель, лауреат премии А. И. Солженицына, главный редактор журнала «Москва», Л. И. Бородин добывал свою истину как человек поступка не в кабинетной тиши, не в карьеристском азарте, а в лагерях, где отсидел два долгих срока за свои убеждения. И потому в книге не только воспоминания о жестоких перипетиях своей личной судьбы, но и напряженные размышления о судьбе России, пережившей в XX веке ряд искусов, предательств, отречений, острая полемика о причинах драматического состояния страны сегодня с известными писателями, политиками, деятелями культуры — тот круг тем, которые не могут не волновать каждого мыслящего человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, сейчас вдарят по нему, — сказал Хохлушкин, оглядываясь на шеренгу танков на противоположной набережной. Собственно, «пулеметное строчение» мы определили по коротким световым вспышкам, не видя, разумеется, ни пулемета, ни стреляющего. Когда же на недолгое мгновение стрельба вдруг прекратилась, а световые вспышки из окна продолжались, мы предположили, что там — пулемет с глушителем, что ли? А такие бывают? Насколько я был информирован, даже самые совершенные «глушилки» от долгого употребления постепенно теряют свои свойства…
И тут меня осенило. Да это же обыкновенная «морзянка»!
«Морзянку» я знал, но только в тюремном ее использовании, где точка — один удар, тире — два. Позже, сопоставив по времени, выяснили: сия почти двадцатиминутная информация передавалась из осажденного здания сразу после того, как депутаты покинули Белый дом.
Знать, обстановка в «мятежном стане» отслеживалась от начала и до конца событий…
Говорил уже, что то ли по менталитету, то ли по Гегелю я фаталист не только по отношению к собственной судьбе, но и к истории. Это моя, и притом любимейшая, формулировка: «История свершается в единственно возможном варианте». То есть — никаких «если бы!» Тысячи обстоятельств-параметров определяют тот самый единственный вариант. Но иногда как бы за бортом остаются значительные события, влияние каковых и последствия, казалось бы, никак не просматриваются в логике реальной исторической фактуры.
В этом смысле события августа 1991-го легко укладываются в цепочки причинностей дальнейшей «исторической поступи». Но вот с октябрем 1993-го все много сложнее. Популярное мнение «справа»: «Пресечение последней попытки реставрации коммунистического режима», даже если оно верно, все равно это только характеристика факта-события в его всего лишь вероятной перспективе. Кто-то, безусловно, таковую перспективу имел в виду. Тот же генерал Макашов, возможно… Но была еще и искренняя боль за судьбу России тысячелетней — я это видел и чувствовал, торча днями и ночами под мятежным балконом.
Само по себе качество чисто политического действа определилось и выявилось поведением его инициаторов. Пощаженные, они так или иначе вписались в ту самую действительность, против каковой восставали, и этим как бы перечеркнули и сам смысл, то есть предположительный фактор-вектор последствий своей вчерашней инициативы. Но возможно ли такое вообще в истории? Ведь тогда следует признать, что Ельцин одержал не только «физическую», но и моральную победу над своими противниками, ибо подлинными противниками его были инициаторы противостояния…
Тогда погибшие — щепки «санитарной рубки»? Есть такое понятие в системе лесного хозяйства. Так в чем же провиденциальный смысл событий октября 1993-го? Единственное, что я могу предположить: мы были свидетелями своеобразного «предупреждения»…
И тут припомню я один случай из моего лагерного опыта. Что поделаешь, из всех личных опытов лагерный — самый богатый.
На семнадцатой зоне в бараке, где я жил, через две койки от меня пребывал старик латыш. Было ему за семьдесят. Говорили, что он чуть ли не последний, кого органы вытащили из бункера в лесу неподалеку от его собственного бывшего хутора аж в шестьдесят втором году. Отравленный газовой гранатой, а после еще дважды простреленный, выжил, следствие суровое перенес, но остался калекой. По новому кодексу осужденный не на четвертак уже, а всего лишь на полтора червонца, дожить до воли он и не помышлял. Освобожденный от работы по немощи, дни и ночи проводил в бараке, днем на стуле близ печки, ночью на шконке на правом боку — никак иначе лежать не мог… Сидел, лежал и спокойно ждал смерти. Лагерный сон не чуток, но от его страшенного храпа со стонами и кашлем люди просыпались. И я в том числе. Просыпались и негуманно проклинали старика-злыдня. Злыдень — потому что ни с кем практически не общался, и лишь косился злобно — так казалось — на всех, в том числе и на своих соплеменников.
Подходя к своей койке, я неизбежно оказывался рядом с ним. Он смердел. Видать, не всегда успевал дойти до туалета. Одежду ему иногда стирал другой, такой же обреченный по причине паркинсоновой болезни зэк-старик, исполняющий в бараке функции шныря, то есть уборщика.
Глаза старика латыша часто были лишь чуть приоткрыты, тогда казалось, что он и не видит никого вокруг себя. И в такие минуты, а иногда и часы он постоянно что-то бормотал по-латышски, бормотал достаточно громко, чтобы, положим, мешать вдумчивому чтению какой-нибудь серьезной литературы.
Когда вокруг тебя сплошные, по справедливости или несправедливости, несчастные люди, невольно черствеешь сердцем — норма! И если поначалу он только раздражал меня, то со временем раздражение переросло в ненависть. Возвращаясь в барак с работы, я прежде прочего кидал на несчастного злобный взгляд — опять смердит! Или — опять бормочет! В особо дурном настроении я даже, бывало, проходя мимо, ворчал: «У, гад! Опять не даст дремануть перед ужином!»
Слышал он или не слышал, мне было плевать. По крайней мере, никакой реакции с его стороны. К тому же было мнение, что он вообще по-русски «не волокет».
Но вот однажды, когда я, в очередной раз «одарив» его, бормочущего, взглядом суперпрезрения, плюхнулся на койку на спину, собираясь, как всегда в таких случаях, прикрыться подушкой, чтоб хотя бы чуть менее слышать его тупое бормотание, он вдруг широко, то есть по-нормальному открыл глаза, вперил в меня свои звериные зраки и жестом руки поманил к себе. Я встал и подошел, и физиономия моя при этом доброты не излучала.
Сначала был хрип, будто он разучился говорить вообще. Но потом на чистейшем русском прозвучало следующее:
«Знаешь, как бывает, три охотника на одного медведя… В решето… Куда уж мертвее… Подошли, а он последней судорогой одной лапой раз! — и нет башки».
Я не из робких. Но помню — позорный холодок прошуршал от сердца к желудку, а оттуда аж к горлу.
Ни в реакции моей, ни в ответе он не нуждался. Веки опустились, на губах слюна…
Возвращаюсь к октябрю 1993-го. Какие бы подтексты, дурные или благостные, ни прочитывались в событиях, пусть даже и вовсе не имевших никаких последствий, возможно, единственный и тогда уж не столь маловажный смысл и историческое оправдание (от слова «правда») жертв 1993-го — предупреждение!
Не зарывайтесь, овладевшие Россией! Чем терпеливее народ, тем менее он программируем. Как блины пекущиеся институты по изучению общественного мнения и, соответственно, по контролю за ним даже за мгновение до того, как «медведь махнет лапой», ничего подобного не предскажут.
Сказано же:
«Блюдите, ако опасно ходите».
Спор
Сколько нынче ни читаю мемуаров, правды о том коротком периоде с 1987-го по 1991-й — ни у кого. Одни по лукавству, другие по неготовности к рефлексии комкают, «зажевывают» то состояние духовной смуты, каковой практически не миновал никто, поскольку все внезапно оказались перед фактом объективной, то есть — как оно виделось — от личности не зависящей катастрофы советского бытия.
Но в том-то и дело, что то была именно видимость «независимости», отсюда и муть душевная на всяком индивидуальном уровне. Но духовная на социальном. И если слегка «подтянуть за уши» гегелевскую диалектику, то можно сказать, что качество советского идеологического сознания, достигнув некоего критического состояния, преобразовалось в иную количественность, то есть — структурность бытия, и поскольку все в известной мере были, так сказать, сотворцами этого процесса, то со временем иные, опомнившись, закрутили шеями в поисках виновников случившегося.
Так возникла концепция Третьей мировой — причина бедствия была вынесена вовне, а инициатива социального творчества заторможена, если не парализована. Но в том только часть проблемы, если обозначить проблемой межеумочное состояние нынешней российской социальности.
Другая часть проблемы в том, что социализм — религия атеистического сознания. Русский человек по преимуществу остался религиозным или, по крайней мере, потенциально религиозным. В Православии себя нашли немногие. Многие, кто при социализме, будучи атеистами, позволяли себе ересь по отношению к социалистическим догмам, отталкиваясь от отвратности дней текущих, превратились в ортодоксов коммунизма-социализма. И в том не вина и не беда, но логика нехристианского, но все же религиозного сознания. Либо Царствие Небесное, либо царствие земное, структурированное по человеческим понятиям справедливости. В то время как христианство — это правда о несовершенстве человека и, соответственно, всего им рукотворного…


























