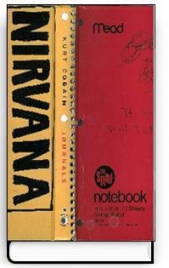Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Залыгин, нужно отдать ему должное, очень высоко отозвался о двух своих тогдашних товарищах, охарактеризовав их способности и познания как выдающиеся. С сожалением добавив, что их судьба не сложилась, как это часто случается в провинции. Учись и живи они в Москве, добавил он, они наверняка добились бы очень многого. А так — самый талантливый из круга залыгинских друзей не поднялся выше преподавателя в Кустанайском техникуме. Позднее Залыгин пытался “перетащить” его на свою кафедру, но тот не согласился.
13 декабря.
У Залыгина были: Крупин, Распутин, Белов, Адамович, Утков. Стол был накрыт на первом этаже в небольшой столовой. Всей компанией выпили бутылку водки под названием “Золотое кольцо”. Прекрасный английский (индийский) чай запили шампанским. Сибиряки (хозяин, Утков, Распутин) пытались показать класс в потреблении пельменей, но большого энтузиазма не было. Пили умеренно, разговорчивость была тоже умеренной. Более других говорили С. П., Белов, Адамович. Обсуждали вчерашнюю передачу: затянули сцену из спектакля, актер (Бочкарев) мало подходит для роли Устинова [213], хорошо, что удалось сказать о Твардовском. Адамович жалел, что сократили, вырезали его сопоставление мужиков у Залыгина и Абрамова: выходит, с годами поглупели и т. д. Вспоминали Твардовского и “На Иртыше”. Белов убеждал, что сегодня в таком виде не напеча<та>ли бы. Посмеивался, что имя Ю-рист показалось бы подозрительным из-за этого “Ю”. Кто-то, кажется Крупин, говорил, что вместо “русский народ” цензура советует писать: “наш народ”. Выходит, они хозяева, а это их народ. В какой-то момент Белов философически заметил, что жизнь и смерть одно и то же, как и капитализм с социализмом. Чуть не всю Европу проехал, сказал, а разницы не заметил, не углядел. По поводу жизни и смерти Адамович спросил: так что же социализм при таком сравнении — жизнь или смерть. А ты сам ответь, сказал Белов. Две стороны одной медали, ответил Адамович.
Залыгин вспоминал приезд Твардовского в Новосибирск вскоре после появления “На Иртыше”. Залыгин болел, лежал в больнице, и Твардовский решил его навестить. Когда же появился на трапе самолета, увидел, что С. П. его встречает. Твардовский был подвыпивши, заворчал: знал бы, что на ногах стоит, не полетел бы. Спустился, предложил сходить в буфет, выпить коньячку. Залыгин тогда твердо заявил: едем домой, есть пельмени и коньяк, или же я ухожу. Твардовский подумал, подумал: коньяк, говоришь, будет? Тогда едем.
Когда в тот приезд пришли с визитом вежливости в обком, Твардовский спохватился, что нет курева. Тогда секретарь обкома вызвал помощника, попросил сходить за сигаретами. “Купите └Ароматных””, — наказал Твардовский. Вернулся помощник смущенный, мнется чего-то. “Ну, купил? Давай!” — говорит ему секретарь. Тот как-то нерешительно лезет в карман, неловко вытягивает маленькую пачку. Эти? Он необычайно удивлен, что именно эти, чуть ли не самые дешевые, и такой большой человек курит! А Твардовский все последние годы курил только “Ароматные”.
Пока Залыгин поджидал в аэропорту Твардовского, там же был первый секретарь обкома партии Горячев со свитой: ждали прилета Воронова [214]. А пока топтались, переминались с ноги на ногу, такая у Залыгина с Горячевым вышла беседа. “Ты скажи честно, — сказал начальник, — это Твардовский тебе заказал написать “На Иртыше”? Небось по телефону все объяснил, что там должно быть, план подсказал?” Залыгин, разумеется, стал удивленно его разубеждать. Тогда Горячев подозвал свою свиту и, посмеиваясь, обратился к ней: “Смотрите, своих не выдаёт. Учитесь. Небось дойдет до вас дело, так меня с потрохами и продадите”.
Вспоминал С. П. и последние (ходили с женой) посещения больного Твардовского, когда он уже не мог говорить, а руки дрожали так, что писать было невозможно. От облучения волосы вылезли, сидел с пушком на голове, пытался что-то объяснить, попросить, нервничал, Мария Илларионовна пыталась угадать желание, не получалось, он гневался, она плакала. Сунула сигарету в угол рта, успокоился, посветлел. А Залыгину показывал, что жует что-то, “пельмени вспоминал”...
Белов сказал, что Солженицын написал о Твардовском плохо, неблагодарно.
Адамович вспоминал, как в зале Чайковского Союз писателей проводил вечер, посвященный Твардовскому (какая-то была круглая годовщина). Перебирали кандидатуры докладчиков, почему-то неожиданно остановились на Адамовиче, Мария Илларионовна одобрила. Адамович удивился, но согласился: большая честь. Когда приехал в Москву, узнал, что доклада он делать не будет. То ли совсем без доклада, то ли кто-то другой найден. В тот день Адамович побывал в “Новом мире”, в “Дружбе народов”, спрашивал, идут ли на вечер. Никто нигде о вечере не знал. Единственное скромное объявление увидел у входа в Зал Чайковского. В фойе толпилось много солдат, какой-то учащейся молодежи. Писателей не было. Потом чинно, с папками под мышкой прошли “Гертруды” (Герои Социалистического Труда. — Залыгин, кажется, слышал это “сокращение” впервые!) во главе с Марковым [215]. Зал не был заполнен, солдат не хватило, Залыгин сидел в президиуме, готовился выступать, что-то черкал: он еще не знал, что слова ему не дадут. С наибольшим триумфом выступал Е. Исаев. Лакшину слова не дали тоже. После окончания этой томительной процедуры Мария Илларионовна за кулисами говорила Маркову: “Я вам этого никогда не прощу”. Будто они нуждались в прощении.
Залыгин рассказывал, как ездил с Айтматовым в Вену: кажется, по издательским делам; да, по приглашению небольшой издательской фирмы.
24 января 1984 года.
Пятого января я закончил 388-ю, и последнюю, страницу рукописи о Залыгине. Теперь жду, что скажут эти подозрительные издатели из “Современника”. Странно, но Залыгин не откликнулся на мои новогодние поздравления, можно подумать, что он за что-то на меня обиделся. На мои юбилейные отклики в “Лит. газете” и “Дружбе народов”? За то, что недостаточно юбилейны?
Самому мне то, что я написал (рукопись), пока нравится. Во всяком случае, это много сильнее, — так я чувствую, — первых двух книжек. Но захотят ли это заметить?
Уже в январе переделал и дописал на треть статью о Распутине для “Нового мира”. Написал рецензию для ярославского издательства (Г. Никифоров). Сегодня правил и дописал статью (фрагмент статьи) “По ту сторону жанра”. Корнилов увез в Саратов; вроде бы “Волга” собирается отметить мое 50-летие.
Это несчастное 50-летие! Куда мне деваться, как ускользнуть, не отмечать, не собирать сборища в библиотеке, где проходят эти наши процедуры!
Пока гоню все это из головы. Говорю себе: еще успею, не до этого.
Вот-вот “Сов. писатель” напомнит мне, что им-то рукопись я не отправил, и тогда-то я возьмусь за сочинение слезного прошения — о продлении и проч., и проч.
Надо дописать оборванную предыдущую запись: Залыгин рассказывал, что Айтматов держал себя в Австрии с чрезвычайным достоинством. Когда после сочинения Айтматовым какой-то дипломатической бумаги (удачного) С. П. сказал ему, что он, Айтматов, мог бы быть послом, тот пренебрежительно спросил: “Здесь?” Любопытно, что в аэропорту Айтматов очень искал комнату для парламентариев. Долго ходили, до отлета, не нашли. Жаль, сказал Айтматов, нет времени, все равно бы нашел.
С удовольствием читаю Карла Поппера. Кажется, образуется интересная переписка с Т. Руллисом (Рига) [216].
В недавно вышедшей книжке В. Леоновича “Нижняя Дебря” мне посвящено стихотворение о волжском буксире, воющем и кричащем у брегов Костромы.
Надо бы записать о том, как Кожинов и Ю. Кузнецов провозгласили галичанина Виктора Лапшина, когда-то поддержанного и впервые замеченного мною, — едва ли не гением.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)