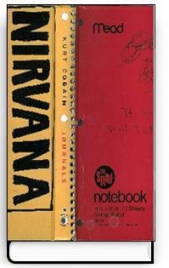Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эта комедия сочинена режиссером Юдиным; никак не удается забыть, что в титрах: Алма-Ата, сорок второй год. Враги изображены придурками и идиотами, наши веселятся, а в атаку идут, спрыгивая с грузовиков; их подвозят на поле боя, как косцов на луга.
К Люде Кириловой в отдел писем [220] приходил житель села Неверова Нерехтского района, принес благодарность, просил напечатать, благодарил за то, что помогли похоронить сына, убитого в Афганистане, поставить памятник. Люда объяснила, что напечатать невозможно, разговаривала участливо и услышала рассказ, как этот человек попросил солдата, сопровождавшего цинковый гроб, приоткрыть крышку; отец увидел в гробу только половину тела, сильно обожженного. Рассказывал он с подробностями, но Люда их Тамаре не повторила. Теперь он жалеет, что посмел взглянуть; теперь он не забудет увиденного, думаю я, до конца своих дней, и ничто уже не смоет в его памяти этой картины. Он увидел то, что было его сыном.
Недавно в доме, где живет Люда, в Черноречье в один день хоронили двоих молодых людей: один, строитель, спьяну разбился, вывалившись с восьмого этажа строящегося дома; другой — погиб в Афганистане. Люде рассказывали, что работники военкомата с этим страшным известием приходят поздним вечером, часов в десять — одиннадцать, непременно с медсестрой и врачом. Приходится “откачивать” матерей и других близких; объявляют, что сын погиб, прибыл цинковый гроб, могила уже подготовлена, похороны завтра во столько-то часов; памятник заказан.
Был случай: в редакцию прислала письмо мать погибшего юноши, возмущенная тем, что памятник сыну привезли домой и оставили, не позаботившись о дальнейшем.
Заодно, разговорившись, обычно молчаливая Люда рассказала о своих братьях, родном и двоюродном, первый — танкист, участвовал в событиях 68-го года в Чехословакии; взрывом какой-то гранаты обожгло глаза, сейчас инвалид, но частично зрение сохранилось; ему пишут письма товарищи по госпитальной палате, все они постепенно ослепли. Двоюродный брат оказался на полуострове Даманском. Участия в бою не принимал, но пригодился при захоронении трупов. После демобилизации женился, сейчас двое детей. Не очень давно заболел: ночные военные кошмары. Поставили на учет в психиатрической лечебнице.
Народ велик, на это надежда и расчет; можно успокоить себя, сказав, допустим, что погибает не больше, чем при автомобильных катастрофах или при эпидемиях гриппа. Действительно, народ настолько велик, что даже массовые репрессии как бы “пощипали” его; царапины, небольшие, быстро затягивающиеся ранки. Все эти потери в людях сносимы, терпимы, если ты твердо уверен, что тебя и твоих близких они не коснутся. Поскольку люди, ведущие всю эту большую политическую игру, твердо уверены,играть они могут достаточно долго. Не думаю, что воображение у них сильно развито. Воображение — удел слабых и малозакаленных.
Темь и тайна, в которую погружены наши потери, — наше несчастье, — говорят о том, что это нечистое дело боится света и гласности. Надо иметь в виду и то, что родители, имеющие сколько-нибудь власти, влияния, связей и вообще хоть какое-то общественное положение, делают все, чтобы обезопасить своих сыновей. Другие родители бессильны что-либо предпринять, они твердо усвоили, сколь малы и беспомощны они перед государством.
Вьетнамскую войну сопровождала гласность; были протесты, были “отказники”, попадавшие под суд или бежавшие в какую-нибудь Швецию; потери обнародовались; цинковые гробы прибывали при свете дня; печать не обходила ни войны, ни потерь молчанием.
Не надо меня поправлять; я знаю, какова разница в этих войнах; разница несомненна. Многие годы мы живем в условиях безошибочной внешней политики нашего государства; во внутренней политике (экономической и прочей) бывали просчеты и тому подобное; внешняя, судя по внедренной в наше сознание оценке, безупречна. Если дело обстоит так, то наши афганские потери исторически необходимы, исторически оправданы. Но стоит допустить, что за объективную необходимость порой выдается обыкновенный человеческий просчет, скоропалительное, плохо обдуманное решение одного или нескольких человек, а то и вообще чья-то глупость, то вся эта политическая и военная неизбежность предстает в ином свете: может быть, выпускник 32-й школы Зотов (имени пока не знаю) и многие другие русские юноши погибли потому, что какие-то афганские ррреволюционеры и их наши советчики переоценили свои силы, возможности, расположение к социализму афганского народа и решили ускорить ход этой чересчур медленной истории. И ускорили, и, поубивав друг друга в борьбе за власть, стали ускорять дальше. Я смотрю на Бабраля Кармака или Кармака Бабраля, или как там зовут этого выпускника ВПШа, и думаю, с каким чувством читает он сводки советских потерь? Представляет ли он себе, как плачут в России и Средней Азии и на Кавказе матери и невесты? Считает ли он, что слова “интернациональный долг” — исчерпывающее, исцеляющее объяснение? Что-то не попадалось мне сравнение (в газетах) Афганистана с Испанией; <...> там воевали с фашизмом, и дальнейший ход истории показал, как они были правы, воевавшие там! Туда ехали воевать со всего света; наши солдаты умирают в Афганистане одни; а что, если они защищают собой просто-напросто несостоятельных политиков? И хуже того — политиков, не знающих, как исправить допущенные ошибки? Людей, не умеющих переводить политические отвлеченности в человеческие жизни, выражать их — в жизнях; не умеющих или не желающих так считать?
Существует версия: в этой пограничной с нами стране нарастало американское влияние. Но вспомним, что Афганистан — первое государство, установившее с нами дипломатические отношения, вспомним, что послевоенные, особенно после смерти Сталина, наши отношения развивались благополучно, что король Афганистана не раз наезжал в Москву и москвичи выстраивались вдоль улиц, приветствуя его. Кто скажет, нарастало ли на самом деле американское влияние, и если нарастало, то в результате чего? наших ли промахов, нашего ли усердия в поддержке Тараки? наших ли более сложных интриг? Кто, через сколько лет скажет, что оттолкнуло от России афганского короля? Может быть, он предчувствовал, что его убьют? Убьют при негласной, а может быть, и явной поддержке тех, с кем он долгие годы был дружен? Говорят, что шоссе до Кабула от нашей границы построено при короле?
Тяжело обо всем этом думать; тем тяжелее, что при пресловутом “информационном взрыве” знаем мы по-прежнему мало, ничуть не больше, чем знали десять, двадцать, двадцать пять лет назад, назвать цифру тридцать не могу: там было много хуже.
Читаю “Записные книжки” Петра Андреевича Вяземского (1883), восьмой и девятый тома собрания сочинений, наткнулся на замечательные рассуждения о Польше, о стихотворениях Пушкина и Жуковского на “польскую тему”, помеченные 1831-м годом; надо бы сделать выписки.
18 мая.
Сон-то не к добру, а приснилось — утром за чаем рассказывал, — как мы с Никитой вдвоем в какой-то деревенской избе то ли отсиживаемся, пережидаем, то ли обороняемся, а перед нашими или только моими глазами план местности, сначала будто бы рисованный, а потом — похоже — на каком-то экране, потому что вдруг спокойствие на нем нарушается и с неожиданной для нас стороны, с тыла, стремительно движется какая-то сила, что-то страшное, невнятное, темное прочерчивает этот “экран”, и я потрясенно выхожу из комнаты, чтобы взглянуть во двор; за окном — по всей деревне пламя, и чей-то голос неподалеку произносит: “Горим!” — я наклоняюсь к стеклу, и понизу по стене вроде бы действительно огонь; я спешу возвратиться к Никите и просыпаюсь; причем отчаяния нет, ум холоден, рассудителен, ищет выхода, но все равно тяжело, и просыпаюсь, выходит, чтобы лучше обдумать; шестой час, лежу обдумываю, вспоминаю, как было, кто там прорвался и чем вооружены; кажется, оружие у нас какое-то фаготообразное; это вчера были на концерте Эстонского симфонического оркестра, и фаготы были приметны.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)