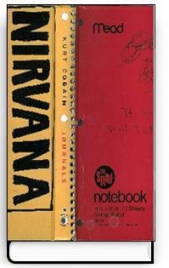Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Великий наш поэт, похожий на вполне порядочного коренастого плотнотелого советского чиновника, Юрий Кузнецов сказал в том собрании, что “сегодняшние обвинения в адрес поэзии несправедливы в основе, ибо за точку отсчета берут 60-е годы...”. Но признал, что “молодежь иногда отходит от подлинно гражданского, государственного пафоса...”. И это, насчет пафоса, говорит российский поэт! Все думаю, от кого они наше государство защищают, все боятся, не обидели ли? От народа, от какого-нибудь нынешнего Башмачкина, от героя “Медного всадника”?
Бог помиловал меня и дозволил мне все это только читать, да еще в изложении, а не видеть, не слушать, не участвовать во всем этом нервном, подпольно злобном словоговорении...
И чего ты, Тома, не едешь?
6 октября.
С первого числа мы опять все вместе. Тома рассказывала о курсах. В частности, о лекторе из горьковской ВПШ с явно просталинскими симпатиями. Наилучшее впечатление оставили университетские преподаватели. По вечерам в общежитии (партшколы) было неприятно; многие пили. Тома с Людой Кирилловой ходили по театрам, старались возвращаться попозже. В общежитии регулярны кражи; к ним привыкли; подозревают девиц из комсомолок — слушательниц партшколы. Публика на газетных курсах — чванная, надутая; все-таки — в своих городах и весях — избранные, причастные власти. Среди костромичей была кологривский редактор Бурнасова. Она рассказывала, как к ней приходил работник госбезопасности, показывал рукописную листовку, в нескольких экземплярах расклеенную по заборам. Там были две частушки; одну из них она запомнила: “Кулиш играет на гармони, Куимов пляшет трепака. Весь район разворовали два заезжих дурака”. (Кулиш — предрайисполкома, Куимов — первый секретарь райкома.)
Тома пересказывала кое-что из услышанного на лекциях. О новых видах оружия, об их стоимости, о масштабах пьянства, о росте смертности по стране за последние годы, о нашем отставании, отставании, отставании, о необходимости военной подготовки молодежи и прочем. Я подумал, что если все эти факты, особенно военного характера, т. е. об орудиях убийства, воспринимать в полную меру чувств и ума, то жить не захочешь. Еще я подумал об ученых людях, которые изобретают это оружие, как о тех, кому нет оправдания. Хотят убивать светом, звуком, отравой — и всё против кого? — против таких же рабочих, крестьян, мелких служащих. Угнетающая, бессмысленная, абсурдная реальность.
Единственный способ жить — ее не замечать. Пока не наткнешься, да?
По городу бродят туристы с последних теплоходов. Со всего нашего бульвара к театру сгребли вороха листьев, чтобы закрыть асфальт: Рязанов продолжает снимать “Жестокий романс”.
8 октября.
Состояние неважное: нужно сделать очень много. Если бы утреннего энтузиазма хватало на вечер!
В понедельник, послезавтра, Никите идти в поликлинику по направлению военкомата: скоро “приписка”. Думать об этом печально. Наш мальчик начинает знакомиться с государством.
Холодная рука государства.
Бойкие московские сочинители (Киреев, Маканин) пишут так, будто помимо мелкого скандального вздора и отношений полов ничего не существует. Например, нет проблемы государства и общества, и это-то во времена Афганистана и т. п. Для человека, героя литературы, этой проблемы, выходит, нет [207].
Говорить о “социальной зоркости” Маканина — после книг Ф. Абрамова, Б. Можаева, В. Семина, В. Шукшина, Ю. Трифонова — несерьезно. Кое-какая социологическая — возможно: коллекционирование редких “экземпляров”.
Читаю Шервуда Андерсона: там, в “Уайнсбурге, Огайо”, “нелепые люди”, но это живая нелепость — какие только деревья не растут в лесу или старом парке. Эта человеческая “нелепость” (“пестрота”, “кривизна” и т. п.) обычно фиксируется обыденным массовым сознанием, но редко (в случаях преступления закона) интересует общественное мнение и государство. “Странности” — личное дело граждан, пусть они оставляют свои “странности” при себе; государство и общество вправе пренебречь ими как несущественностью. Наша литература в немногих случаях, и то непоследовательно — например, Шукшин, — “опускалась” до “нелепых” людей, “чудиков”, “психопатов”, “нервных” и т. п. Кроме того, Андерсон чувствовал и передавал томление и растерянность человека перед жизнью, обилие смутных и чистых мотивов, их вытесненность, искаженность, иногда несбыточность, а порою — и причудливое воплощение (“Человек с идеями”). У Андерсона жизнь людей поистине жизнь, то есть нечто естественное, колышущееся, непредсказуемое, взрывающееся, выплескивающееся через край... Это что-то трудно себя сознающее, сбивчиво выражающее свои желания, путанно их осуществляющее...
Валенсе дали Нобелевскую премию мира; по литературе — У. Голдингу.
Наткнулся в “Отцах и детях” на фразу: “Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей”.
23 октября.
Сырой, серый день; совершил после работы свой круг по городу; не по лучшему маршруту (возвращался по шумной и грязной Калиновской), но все же... Шел и думал: деревня и есть; поубирали заборы, дворы раскрылись: длинные поленницы, сараи, сарайчики, помойки, лавочки, дощатые уборные... Под солнцем и это празднично, летом — сквозит поленовское, от московского, или общерусского дворика, зимой — кустодиевское... Осенью сквозит одними задворками, бедной окраиной, захолустьем... Когда мальчиком жил в Ухтомке, в коммунальной квартире — без канализации и водопровода, где в “ванной” комнате, то есть в чулане, благоухали помойные ведра, прикрытые фанерками, — годились и для ночной нужды, — тогда всю эту бедность и грязь я не замечал, ничего иного, лучшего, не зная и себе не представляя. Если с чем-то свыкаешься, то не замечаешь — ни тех ведер, ничего другого. Когда на лето приезжала погостить из Липецка бабушка Варвара Николаевна, уже старенькая, но еще учительствовавшая, то ходила она в уборную, неся с собою “сиденье”, или как это, запамятовал, называется. Я не сразу сообразил тогда, что это она с собою носит. А проходить нужно было вдоль фасада дома, и не в тихую, а в оживленную сторону двора, потому что там была калитка на улицу, а у нашего и второго подъезда (всего два) обычно сидели люди, играли дети. Дети, увидев бабушку со смешным предметом в руке, посмеивались; про взрослых ничего не скажу, не знаю, судачили ли на эту тему они. У бабушки были седые прямые волосы, откинутые назад и скрепленные большой гребенкой; старая учительская прическа. И нос с горбинкой, и чуть навыкате глаза, и какая-то благородная линия старчески дряблого подбородка все еще сохраняли черты породы, породистости. Когда-то бабушка училась в пансионе благородных девиц — там, где теперь Центральный дом Советской Армии. В школе она преподавала немецкий и французский. Помню, позднее, когда уже жили все вместе на Октябрьском поле, она переводила мне в “Леттр франсез” (?) статью о Фолкнере в память... Так вот — моя бабушка-дворянка, ни на кого не глядя, не замечая никого, шествовала вдоль дома по дорожке к той грязной, поистине общественной уборной, закрываемой на вертушку и часто стоявшей распахнутой настежь... Но привычка могущественна, это было, но словно не было, потому что тысяча вещей и обстоятельств была важнее... Стоит только обжиться, и, когда нет выбора, человек назовет домом и хлев, и звериную нору, и угол на нарах в теплушке, и всякую щель, сохраняющую ему жизнь... Так вот — о привычке: я подумал о ней сегодня, в этот серый, холодный день, когда — не в первый, сказать по совести, раз — подумал, что привык в этом городе многого не замечать, как не замечал тогда в Ухтомке или много позднее, когда жил на частной квартире — у Магницких (правильно: Магнитских; их сын, учитель истории Михаил Павлович, возмущался, когда его фамилию писали через “ц”) или у Людмилы Вячеславовны (фамилию забыл). Если же освободиться от привычки, скинуть ее, то окажется: бедность, еще раз бедность, заброшенность российской провинции, старого русского подворья.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)