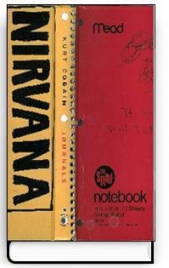Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Польше приостановлено действие военного положения; пока Польша праздновала, что же будет дальше? Приостановленное легко возобновляется. Мы же живем по-прежнему. В. Г. Корнилов [181] ожидает полного и повсеместного порядка. Порядок — это вроде как идеал общественного устройства. Другого слова, чтобы его обозначить, не находится. Можно и получить порядок — этого в XX веке хватало.
7.1.83.
“Что ни говори, а главного героя мы немного связываем с собой”, — писал Виталий Семин. Какой я романист, но такого, связанного со мной, главного героя очень бы я хотел выпустить в свет. И посмотреть хотел бы, как бы он себе жил. И как бы прожил.
Меня удручает обилие <в современной прозе> каких-то странных главных героев. Если Семин прав и связь существует, — а “немного” звучит полуиронически, и значит, связь крепка и надежна, — то каковы те, думаю я, с кем главные герои в такой родственной близости?
Я не собираюсь выпускать своего главного героя кому-нибудь в укор. Просто я думаю, что и ему пора вернуться в жизнь — пусть призрачную, фантастическую, однако кишащую и громкоголосую, и пусть он просто засвидетельствует, чтотемижизнь не кончается, что есть еще много других или совсем других, и они со своими тихими голосами и скромными повадками еще не утеряли своего значения в глазах жизни, где они были и есть и где шли своею дорогою.
8 января.
Быков прислал книжку и письмо. “Знак беды” снят в “ДН” цензурой и после читки “выше” передвинут на май. <...>
Продолжаю писать, но собой не доволен: не то; не так... Настроение по временам тяжелое. И празднование Нового года, и похороны Викторова тестя, большевика с 1919 года, работе не “способствовали”.
Впрочем, не стоит искать оправданий.
Встретил учителя Меренкова, ныне (он на пенсии) — слесарь при домоуправлении, точнее — при котельной, где он в последнее время работал оператором. Смеется над беловским “Ладом” [182]: ну какой там, в русской деревне, “лад”? Не было, не бывало и нет. Спрашивает меня, читал ли я письмо Ломоносова о “размножении русского народа”. Говорю, нет и не знаю про такое. Он мне рассказал, ну а я дома нашел то письмо, прочел. И верно, к “ладу” отношение имеет, ко всякой идеализации собственного народа — прямое.
Из меренковского разговора: “А зачем попу наган, если поп не хулиган”.
Никаких рождественских морозов. Три градуса тепла.
Статья П. А. Николаева в “ЛГ” против М. Лобанова, в основном и главном справедлива; опять взялся за “Драчунов” [183], надо прочесть. Очень любопытно место, занимаемое в этом сочинении главным героем; если проследить внимательно, обнаружится немалое самодовольство и вера в свою значительность. Стиль рыхлый, с обильными длиннотами; как будто хочется наговорить больше слов. Как можно больше. Заметны и психологические просчеты, тоже характерные, связанные с внутренней неправдивостью; идея проводится с усилием, с искусственным усердием и навязчивостью.
Нарастают — по телевидению, в газетах, — разговоры о трудовой дисциплине и порядке. Возможно, они приведут к чему-то положительному; меньше станет прогулов, хождений по магазинам и т. п. Но, в сущности, это предусмотрено законами Паркинсона: новый начальник начал борьбу за совершенствование распорядка рабочего дня во вверенном ему учреждении. В. Семин писал, что надежда на новизну и свежесть очередного начальника имеет место при “катастрофическом способе ведения хозяйства”. <...>
Честертон своими рассуждениями о Французской революции [184] помог мне утвердиться в своем отношении к Октябрю. Да, эволюция лучше революции, — меньше крови, но революция случилась. “Если демократия разочаровала вас, пусть она запомнится вам не как лопнувший мыльный пузырь, а как разбитое сердце, как старая любовь. Не смейтесь над временами, когда вера в человечество переживала медовый месяц; взгляните на них с тем уважением, которого достойна молодость”.
В такую слякоть, как сегодня, город настолько неприятен, — к тому же суббота, толпы людей слоняются по магазинам, черные муравьи, — что я вдруг чувствую всю напрасность своей здешней жизни, ее глубокую заброшенность, свою затерянность. И иду рядом с Никитой к дому, старательно перебарывая в себе это совсем не новое ощущение, потому что, к счастью, он ощущает все окрестное иначе, светлее, и я вовсе не хочу, чтобы он догадывался о моих настроениях: пусть он верит в мою силу и в мое значение. В сущности, отбросив хандру и печаль, как всегда качающую меня как на волнах, нужно признать твердо: меня трудно счесть побежденным. Невозможно признать процветающим, но столь же невозможно — побежденным.
19 января.
Сегодня от Левы Аннинского “Лесковское ожерелье” [185] и письмо, и тронувшее меня и даже как-то подстегнувшее меня (сидел за машинкой). Чуть-чуть доброты, господа, и понимания, и живется много легче, и пишется свободнее.
Виктор привез письмо Лакшина Залыгину (около трех страниц). Несколько дней назад послал письмо Залыгину в некоторой надежде поддержать его, не зная, впрочем, нуждается ли он в том. Пока от него — ничего. Лакшину и Залыгину не пристало бы “выяснять отношения”; дурные люди радуются, более того — пользуются этим в своих нечистых целях.
Изменения в газетной фразеологии (официальной) незначительны. Я начинаю думать, что они отражают калибр и глубину происходящих изменений.
Анекдоты о “чукчах” сменились анекдотами о бандеровцах. Странно, но так. Из последнего “цикла”, что сумел запомнить. Бандеровец (бывший, разумеется), называется какое-то украинское имя, берет в детском доме ребенка на воспитание (своих детей нет). Приводит домой. Жена потрясена: “Да вин же черный!” — “Какая тебе разница! Зато не москаль!”
Весь январь теплый; средняя температура должна быть плюсовой. Основное, что обсуждает народ: наращивают дисциплину, начальники хмурят брови и устрожают голос. Редактор разговаривает, будто все в чем-то провинились. Замечательно. На уровне правительства и Цека обсуждали сначала производство запасных частей к частным автомобилям, сейчас — время работы магазинов, прачечных, ателье и мастерских. Это и есть крайности цивилизации, ее, по сути, безумства.
6 февраля.
<...> Идут разговоры об “облавах” в дневные рабочие часы в универмаге, в продуктовых магазинах (винных отделах), в книжном магазине: ищут “прогульщиков”. Маляр из соседнего подъезда (любимое присловье: “Здравствуй, хлеб, четыре булки!”), который иногда захаживает ко мне за тремя рублями, дня три назад жаловался, что его самого задержали в магазине двое мужчин и, проведя воспитательную беседу, отпустили. Он же жаловался на повышение цен на крепленое вино, на то, что в отрезвителе увеличили плату (до 70 рублей) и деньгами не берут, требуют отработки. Очень огорчался, что “рабочего человека” “прижимают”.
Пока у нового руководства одна новая идея, предложенная народу: на работе — работать. Произошло также очередное необъявленное повышение цен: на вино, газ, стройматериалы, почтовые отправления, установку телефонов и еще на что-то, что мы узнаем постепенно.
Еще новое: “Комсомолка” завела рубрику: “Служба в Афганистане”. Ну а остальное — старое. Материал Пржиалковского [186] о Высоцком для “Молодого ленинца” окончательно похоронен. Разговоры Аркадия с работниками отдела пропаганды и агитации обкома (Прокофьевым, недавним районным газетчиком, и Рыбалкиным) показали, что для них до сего дня имена не только Высоцкого, но и Окуджавы, и Ахматовой, и Пастернака, и Булгакова — имена вредных людей, которых лучше не упоминать. В материале Аркадия стихотворение Ахматовой было перечеркнуто не в московской цензуре, а в костромском обкоме. Про авторов высказываний о Высоцком, собранных Аркадием по московским журналам и газетам: Крымова, Карякин, Вознесенский, Любимов и т. д., — было сказано, что это все одна компания.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)