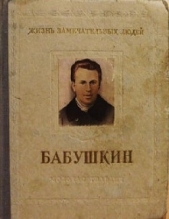Преодоление. Повесть о Василии Шелгунове
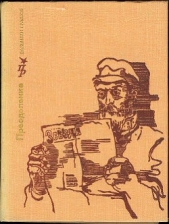
Преодоление. Повесть о Василии Шелгунове читать книгу онлайн
Книгой «Навсегда, до конца» (повесть об Андрее Бубнове), выпущенной в серии «Пламенные революционеры» в 1978 году, Валентин Ерашов дебютировал в художественно-документальной литературе. До этого он, историк по образованию, в прошлом комсомольский и партийный работник, был известен как автор романа «На фронт мы не успели», однотомника избранной прозы «Бойцы, товарищи мои», повестей «Семьдесят девятый элемент», «Товарищи офицеры», «Человек в гимнастерке» и других, а также многочисленных сборников рассказов, в том числе переведенных на языки народов СССР и в социалистических странах. «Преодоление» — художеетвенно-документальная повесть о В. А. Шелгунове (1867–1939), кадровом рабочем, одном из ближайших соратников В. И. Ленина но петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», талантливом самородке, человеке трагической судьбы (он полностью потерял зрение в 1905 году). Будучи слепым, до последнего дня жизни продолжал активную работу в большевистской партии, членом которой являлся со времени ее образования.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он взывал так, давно забытыми, чуждыми словами, он трясся от ужаса и плача, прижавшись к хладной стене, слезы леденели в апостольской бороде, и, если бы кто видел Василия, эти мерзлые капли показались бы — в отблесках костров — каплями крови, еще не пролитой.
Ему стало жаль и себя. Не останется ровным счетом на земле ничего от немудрого пускай, пускай небезгрешного, пускай не свершившего, а все же — человека по имени Василий Шелгунов, он канет в ничто, и скорее всего даже насыпным холмиком не обозначат место, где примет почва его тело, и даже самой что ни на есть махонькой звездочкой в небесах не возгорится его намаянная, страждущая, одинокая душа, исполненная любви, неумелая и невысказанная в этой любви и ответной любви не познавшая. Прими ее, несмирепную, несломленную, невысказанную душу мою, господи…
Он матерно, длинно выругался, отлепил себя от каменной равнодушной стены, ткнул палкой в жестко воспротивившуюся брусчатку и твердо, на память, не глядя на дорогу и не выстукивая ее, зашагал к Невскому.
Воскресные дни соблюдал он свято, и не только движимый верой и настояниями благочестивых Алике и мама, но и потому, что государственные дела его смолоду тяготили, но, увы, у нас не Англия, в России приходится не только царствовать, но и править гигантским поместьем в сто сорок миллионов душ, данным ему в наследство… Воскресные дни он соблюдал, предаваясь отдохновению, однако ныне, в пору смуты и тревог, понужден был подняться раньше, против давней привычки, — министр двора барон Фредерикс зван был к восьми.
Пухленький, с нежной, как младенческая заднюшка, лысиной Фредерикс загодя вытягивался, он излучал плотоядное здоровье, преданность, усердие. Подкатился колобочком, облепил протянутую государеву руку. Воркующе и сладостно — вот манера! — принялся докладывать: «Телеграфно изволили его высочество светлейший князь Владимир Александрович… Телефонировал всеподданнейше градоначальник… Доставлена генерал-адъютантом диспозиция войск, все приготовлено, ваше величество, ожидают лишь…»
Никому не узнать, о чем думал, что видел мысленным взором, какие внутренние голоса в эти минуты слышал император. Быть может, предстала ему тень прадеда, Николая I, колыхавшаяся над окровавленной Сенатской площадью, над невскими прорубями, куда спускали бездыханные тела солдат-бунтовщиков. Или услышал он едва памятный глас деда, государя-освободителя: «Лучше мне было освободить крестьян сверху, нежели ожидать, пока они освободят себя снизу, вот лучше бы и тебе, Ники…» Или вспомнился отец в его добровольном гатчинском заточении, над полумистической, причудливо страшной утехой: разглядыванием собственноручно вклеенных в альбом портретов тех, кто покусительствовал на жизнь его несчастного батюшки… Никто не знал и не узнает, о чем думал Николай.
Но все-таки сохранилось для будущих поколений свидетельство лица, отнюдь не заинтересованного в том, чтобы выставить государя Николая II перед судом истории в невыгодном свете. Свидетельство самого Николая Александровича Романова.
Еще никто и никогда не вел дневников с предельной обнаженностью, без оглядки на вероятного (или желаемого) читателя. Еще никому не дано в дневниках не приукраситься, утаив даже от себя постыдное, унизительное, что есть почти в каждом смертном. Однако всякий дневник есть сочинение, и в нем, как и в любом сочинении, неминуемо проглядывает автор, сколь бы ни старался он приукрасить себя, припудрить, прихорошитт, или казаться беспристрастным.
Николай вел дневник с отрочества, удручающе дотошно, не пропустив единого числа. Кажется, разверзнись твердь и хляби небесные — он и это исхитрился бы занести в тетрадь с привычно унылой, филистерской, неосмысленной обстоятельностью, с той беспредельной убогостью, какая отличает любую страницу записей — дневника не чиновника XIV класса, не дьячка, не приказчика, но — помазанника божия, вершителя судеб великого народа. С позиций последующих времен можно по-разному оценивать личности сильных мира сего. Николаю II посчастливилось: почти все, кто знавал его, и те, кто изучал впоследствии по документам и свидетельствам, оказались поразительно единодушны. Однако душевную пустоту, равнодушие к людям, жестокость, затаенную под заурядной, иногда красивой, почти всегда приятной внешней оболочкой последнего императора Николая II убийственней всех выразил, того, разумеется, не желая, он сам, Николай Александрович Романов, в своих дневниках.
Вот доподлинно и дословно:
«9 января. Воскресенье. Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города; было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!.. Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракал со всеми. Гулял с Мишой (?)…»
Больше не записано буквально ничего…
…Николай II встал, размашисто перекрестился на икону покровителя своего, святого Николая, чудотворца Мир Ликийских. «Быть по сему», — привычно ласково сказал государь министру Фредериксу, блистающему розовой лысиной. «Ступай», — велел он.
К Нарвской попал Василий часов в десять. Народу возле Общества трезвости — на глазок — тысяч пять. Хоругви, иконы, — Гапон, известно, шествие назвал крестным ходом. Разговоры: с чистой душой идем, с благими намерениями, как дети — выплакать на отцовой груди свое горюшко… Слух шел, будто для выбранных из толпы депутатов государь приготовил в Зимнем угощенье человек на полсотни, царица встретит делегацию у Александровской колонны хлебом-солью. День разыгрался веселый, солнечный. Возник на крыльце Гапон — ряса, золоченый крест. Вопросил: «Нет ли у кого оружия, братья?» — «Нет, нету, батюшка!» — «Превосходно, ибо наше оружие — вера!» Отслужил молебен.
В полдень тронулись — неспешно, с обнаженными головами. Держали у груди святые иконы, портреты царя и царицы. Пели торжественно, истово: «Боже, царя храни», «Спаси, Господи, люди твоя…» Полиция тоже, видно, пока глядела как на крестный ход: у тротуаров построена, блюдя порядок, при виде шествия снимали шапки, усердно крестились. Впереди толпы ехали несколько городовых и два чина, — сказали, что помощник пристава Жолткевич и околоточный Шорников, они расчищали путь, заворачивали встречные экипажи.
Приближались к Нарвским воротам, Шелгунов увидел смутно: галопом скачет отряд. Толпа расступилась, конные пересекли толпу насквозь и тем же аллюром умчались обратно. Василия обдало полузабытым запахом лошадиного пота. Люди, покорные и доверчивые, пропустили проскакавших невесть зачем, сомкнулись и шли. Не угадать, может, осталось жить считанные минуты, свистнет пуля, блеснет шашка, поляжет и не встанет никогда… И вспомнилась Женя Адамович. Слыхать, недавно приехала, в Василеостровском комитете, свидеться не довелось, да и зачем, кому нужен слепой? А Женя ведь тоже наверняка идет в колонне, вдруг и Аннушка с ней там, и над ними занесут оголенную шашку, и они обе упадут, не встанут никогда, нет, нет, остановитесь, детишек хоть не троньте, женщин, стариков, изверги!
Гапон куда-то исчез, наверно, ускакал к Дворцовой, ему ведь вручать петицию. Вот они встречаются посередке площади. Первой идет царица, хлеб-соль в руках, преклоняет колена перед священнослужителем: благословите, отец… А Николай — не таков, как на парадных портретах, проще, доступней, в солдатской шинели — обнимает Гапона, принимает свиток, обнажив голову, прослезившись, обращается к народу… Что ты бредишь, Васька, моли бога, не стреляли бы… Ровно дышит многотысячная толпа. Рядом — мальчугашка лет пятнадцати. «Как звать-то?» — «Федянька». — «Не боишься?» — «Чего ж бояться, полиция порядок соблюдает…» Блажен, кто верует…
И тут Василий увидел Михайлова! Окажись тот переодетым под рабочего — не удивился бы: не может здесь обойтись без доносителей. Или если бы размахивал красным флагом, выкрикивал революционное — тоже не диво, провокаций следовало ждать. И вполне было натуральным увидеть его в чиновничьем мундире… Но бывший зубной врач, провокатор, иуда был в партикулярном обычном платье, ничем не размахивал, лицо казалось грустным, сосредоточенным…