Оставшиеся в тени
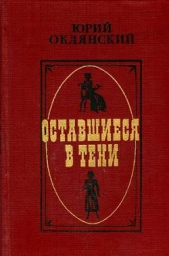
Оставшиеся в тени читать книгу онлайн
Книга Юрия Оклянского «Оставшиеся в тени» впервые объединяет под одной обложкой две биографические повести, получившие широкое признание читателей. Главных героинь «Шумного захолустья» и «Повести о маленьком солдате» роднят незаурядность натур и тот вклад, который они внесли в историю литературы и события эпохи. Частичная доработка произведений, осуществленная автором в настоящем издании, отобразила документальные материалы последних лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В один день для меня рухнул весь мир. И ничего не подозревавший мальчишка-второкурсник сразу вдруг оказался без родных, без крыши над головой, без всяких средств к существованию да еще с незаслуженным и позорным пятном «штрафного».
Спас меня тогда наш факультетский комсомольский секретарь Борис Стахеев.
Как большинство студентов-фронтовиков, недавно демобилизованных из армии, Стахеев выделялся среди нас, вчерашних школьников, тем, что ходил в защитного цвета гимнастерке, подпоясанной форменным ремнем, с потемневшими ленточками орденских колодок на груди.
У него было неестественно белое лицо, к которому не прилили еще краски здоровья после перенесенного на войне, бедовый взгляд умных прищуренных глаз и расчесанные пробором жесткие русые волосы. Стахеев был старше, быть может, всего только на четыре или пять лет. Но это был уже человек, повидавший жизнь и разбиравшийся в ней лучше нас, юнцов.
Не берусь задним числом судить, насколько ясна была Стахееву несправедливость того, что случилось с моими родителями. Но помогать мне он взялся решительно и без колебаний.
Речь шла о кажущейся малости — о месте в студенческом общежитии. Но желанная койка была для меня не просто местом ночлега. Она была спасательным кругом тонущему. Челном в море. Мостиком из внезапно рухнувшего мира в будущее. Из отчаянного одиночества и неверия к людям. Вот это, как вижу по прошествии лет, сразу понял Стахеев.
Добиться общежития обычным путем при случившихся обстоятельствах не было никаких возможностей.
— Общежитие переполнено, мест нет, — твердо взглянув на меня, сказал проректор Иванов. — Мы отказываем детям Героев Советского Союза, а что скажут, если дадим сыну врага народа…
Конечно, «Героев Советского Союза» он помянул ради красного словца, но что же было делать? Оставалось изобрести самовольный маневр с ордером на вселение.
Я не был Стахееву ни другом, ни приятелем. А был лишь одним из младшекурсников, с которым он сталкивался раньше по совместным комсомольским делам и которому сейчас было плохо.
Стахеев тогда крупно рисковал. Если бы случай открылся, он по нравам тех лет не только бы перестал быть секретарем факультетского бюро, но, возможно, и сам бы распростился с университетом.
Но Стахеев привлек к этому делу своего однокурсника, председателя студкома, и я был спасен. Как это просто! Один маленький клочок бумаги, ордер, наколотый на иглу, как чек в магазине. И мне не надо больше бросать университета, уезжать из Москвы… Вся моя жизнь пошла по этому руслу, а не по другому…
Конечно, я никогда не забывал этого случая. Но, как известно, обстоятельства разводят людей в разные стороны, а большое видится на расстоянии.
Лет двадцать я не встречал Стахеева, а потом вдруг случайно столкнулся с ним на одной из московских улиц. Он сильно посолиднел, располнел. Он был теперь известным ученым.
Мы стояли друг против друга. С обеих сторон нас обтекали прохожие, по шоссе мимо неслись машины. А я с внезапно нахлынувшим чувством объяснялся Стахееву в любви.
Я говорил, что десять лет после распределения меня не было в Москве, потом как-то не представлялся случай, а теперь я хочу сказать, какое значение в моей судьбе имел его тогдашний поступок, с высоты пройденных лет хочу еще раз поблагодарить его, крепко пожать руку, обнять, наконец… и т. д. и т. п.
Борис смотрел на меня своим прежним прищуренным бедовым взглядом. Но я заметил тень недоумения на его лице.
— Ты знаешь, я этого не помню… — помолчав, сказал он. — На факультете было больше полторы тысячи комсомольцев… И чего только не происходило в те годы, за что только не брался…
Он не помнил!
А почему, собственно говоря, он должен был помнить? Ведь студентов действительно было значительно больше полутора тысяч. В комнатке факультетского бюро не смолкал шум. Стахеевская зеленая гимнастерка проглядывала часто сквозь кольцо обступивших его студентов. И если факультетский секретарь был человеком чести, а именно таким был Стахеев, то мало ли какие сложные случаи подсовывала ему за эти годы жизнь и какие рискованные решения подсказывала совесть!..
Есть люди, которые по роду своих занятий, делая полезное и нужное дело, не могут помнить всех своих поступков.
Таким человеком, не помнящим добрых дел, был Борис Стахеев.
Вы никогда не забудете врача, который спас жизнь вам или вашим близким. Никогда не забудете первого учителя. Но это вовсе не значит, что тот и другой так же обязательно запомнят вас.
Хирург на операционном столе своим мастерством, напряжением, воли и сил, случается, не раз в месяц решает вопрос жизни и смерти. Но в памяти у него может сохраниться скорее форма какой-нибудь кишки, чем ваше лицо.
Это, конечно, обидно. Но, что поделаешь, это так.
Почему же не допустить, что и Аплетин в данном случае был тем же самым человеком, не помнящим своих добрых дел?
Важно, что его поступков и поведения в канун войны, как показывают документальные источники, до конца дней не мог забыть Брехт. А то, что о них не помнил сам Аплетин, это, в конце концов, не важно…
Поскольку Аплетин еще не раз появится в дальнейшем повествовании и будет играть в нем важную роль, об этом человеке следует рассказать подробней.
Михаил Яковлевич в разговоре назвал своего отца по фамилии Фигуриным. Собственно, Фигурин — это была кличка. Но подлинную свою фамилию, что он не Фигурин, а Аплетин, отец сам впервые узнал только в почтенном возрасте, когда вернулся жить на покое к родным могилам. И лишь последние пять лет провел под фамилией Аплетин.
До этого не только в просторечии, но и по всем городским бумагам он значился Фигуриным.
Он был из крепостных села Ундола Владимирской губернии. И как многие крестьяне неплодородных губерний России, находился на оброке. Еще десятилетним мальчишкой пристроился торговать в городе гипсовыми статуэтками, изображавшими различных знаменитостей. В рост, без ног и по плечи. Однажды по неосторожности грохнул о землю поднос с целым гуртом белоглазых гете, шиллеров и жуковских. И вместе с поркой получил от хозяина прозвище: «Эй ты, Фигурин!»
Так и пошло. Сначала Яшка Фигурин… Потом Яков Фигурин… Потом Яков Михайлович Фигурин…
От позднейших времен, когда семья уже могла позволить себе такую памятную трату, сохранился групповой снимок, который показывал мне Аплетин.
В центре — крупный мужчина, с благородным лицом интеллигента. Высокий лоб, прямой нос, умные медвежьи глаза…
Он был недюжинным человеком, этот городской житель Яков Михайлович Фигурин. Имел голову на плечах. Мог без чертежа собрать и разобрать сложную машину. Но газету, когда напускал солидность, делая вид, что читает, держал вверх ногами. Грамоты он так и не превзошел.
С тем большей страстью он хотел обучить наукам своего младшего сына Мишку. И это был день отцовского торжества, когда после всех мытарств с платой за учение и долголетних карабканий в гору тот выдержал экзамены и был принят в университет.
Это было в неурожайный год, после лихорадки и смуты первой революции. Почтальон, в форменном кителе, принес в избу пакет с подтверждающей бумагой, на конце печать с гербовым двуглавым орлом и аршинными буквами сверху: «Императорский петербургский Университет». А по селу пополз слух: «Мишка на царя учится…»
Путь Аплетина-младшего к революционным идеям не был исключителен для человека из низов, который попал в купель студенческо-пролетарского Петербурга и искал справедливости для себя и для других.
К бунтарству он пришел сначала как вчерашний крестьянин. Состоял в партии эсеров, будучи на левом ее крыле.
К 1917 году Михаил Яковлевич, окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета и успевший поработать учителем гимназии, уже полностью созрел для самого многостороннего и активного участия в развороте событий.
В большевистскую партию он вступил как боец, для которого судьба Октябрьского начала была собственным его будущим. В решающий момент 1919 года, в наиболее грозные для Петрограда дни, когда, по слову тогдашнего воззвания, стать коммунистом означало «получить мандат на виселицу».


























