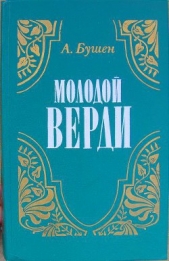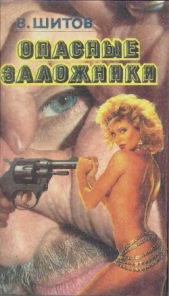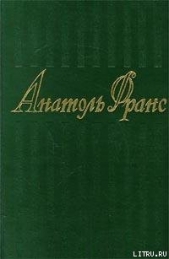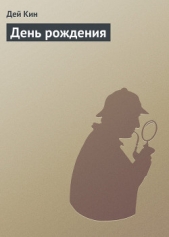Верди. Роман оперы

Верди. Роман оперы читать книгу онлайн
Автор книги – известный австрийский писатель – в популярной и доступной форме рассказывает о жизненном и творческом пути великого итальянского композитора, освещая факты биографии Верди, малоизвестные советскому читателю. В романе очень убедительно педставлено противостояние творчества Верди и Рихарда Вагнера. В музыке Верди Верфель видел высшее воплощение гуманистических идеалов. И чем больше вслушивался он в произведения великого итальянского мастера, тем больше ощущал их связь с народными истоками. Эту «антеевскую» силу вердиевской музыки Верфель особенно ярко передал в великолепной сцене венецианского карнавала, бесспорно принадлежащей к числу лучших страниц его романа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Мои друзья, по обыкновению, усердствовали над низложением итальянской оперы. При этом друзья-итальянцы не отставали от прочих. А я рассердился, меня оскорбило такое поношение. Да, я не могу выразиться иначе, – именно оскорбило.
Сделали еще несколько шагов.
Перед театром Гольдони композитор опять остановился:
– Бесспорно, в тридцатых годах, когда Россини решил замолчать, с концертно-образной мелодрамой было покончено. Ей на смену должно было прийти что-то новое – новая истина, и она пришла. Но что знает нынешняя молодежь о сокровищах, подлинных музыкальных сокровищах старой оперы? Легкомысленный Россини достоин всяческого уважения. Я никогда не упускал случая воздать ему должное. И я никогда против него не воевал. Его характерное знаменитое крешендо – великое достижение истинной драматической музыки. Бетховен очень хорошо сказал, что Фортуна подарила Россини самые влюбленные мелодии в мире. Сегодня я знаю, что для создания «Севильского цирюльника» нужны были сила и гений.
Итало поднял голову и очень удивленно поглядел на композитора, а тот ласково улыбнулся в ответ:
– Да, саго amico, и все вы, господа! Вам без труда даются композиции, всякие новые приемы искусства: увеличенные трезвучия, альтерированные аккорды и тому подобное. Оркестр «Гибели богов» – вот вы с чего начинаете!
Сердце Итало вскипело тщеславной радостью: Вагнер принимает его за композитора! На узком Калле дель Фабри немец опять остановился.
– Вам слишком импонируют эти второстепенные вещи. Я же, заметьте, когда начинал, я был во власти итальянской мелодии. Она была первым музыкальным восторгом моей молодости. У меня есть одна совсем забытая, вернее, затертая опера, в которой я прямо-таки с упоением отдал дань беллинианству. Еще бы – в двадцать-то лет! Но сегодня, через несколько десятилетий, я опять понимаю то, с чего я начинал. Это весьма примечательно! Но ведь эволюция человека есть всегда эволюция от новатора к реакционеру.
Если я напишу еще одну оперу, ее партитура будет еще прозрачнее, чем партитура «Парсифаля»! Да, скажу открыто: Беллини, как ни поверхностна у него фактура, был отцом широкой оперной мелодии с ее размахом и взлетом, которая определила всю последующую драматическую музыку. Я сам многим обязан ему и Спонтини. Еще в «Лоэнгрине», в хоре ликования, явственно напоминает о себе этот бесподобный воинствующий дуралей Спонтини.
Несколько прохожих шумной и дружной гурьбой оттеснили Итало от Вагнера. Когда юноша в смущении снова протолкался к композитору, тот как ни в чем не бывало, даже не заметив отсутствия своего юного слушателя, продолжал говорить. Итало услышал заключительную часть рассуждения:
– Правда, новые маэстро опошлили и выхолостили исконную форму. Они неубедительно и безвкусно напускают много ложного, дутого пафоса. И все-таки: надо улучшать, улучшать, мои почтенные синьоры! Я так и сказал им вчера. На днях, во время карнавала, я слышал, как духовой оркестр на Пьяцце исполнял фантазию из какой-то сравнительно новой оперы. Я этой вещи не знаю. Но это была настоящая музыка…
Рихард Вагнер запнулся и побледнел. В десяти шагах перед собой он увидел мясной ларек. Плотно нанизанные на железную жердь, свисали выпотрошенные и рассеченные надвое туши животных. Лицо композитора исказилось. Он быстрым кивком отпустил своего спутника и торопливо повернул назад. Итало испуганно смотрел вслед боготворимому композитору, но тот сразу исчез.
III
Кажется, газеты поднимают разговор о юбилее. О, пощадите! Изо всех бессмыслиц в мире эта самая наибессмысленная…
Если непременно нужно идти на уступку, предложите людям, чтоб они устроили юбилей через пятьдесят дней после моей смерти!
Сенатор не отличался гибкостью ума, что довольно странно для филолога, поскольку он должен не только изобретать гипотезы, но подчас и отбрасывать их. Богатый на выдумку, он был, однако, в той же мере беден способностью к отбору и критике. Когда у него возникала какая-либо идея, он слепо следовал ей и уже не прислушивался к голосу, настаивавшему на проверке. Изо всех качеств, вредивших ему, это более других повинно было в том, что он, при всей своей порывистой силе, так рано застрял на мели.
За стаканом вина ему пришла в голову одна довольно простая идея. Недооценивая причины, вызвавшие у маэстро депрессию, он вдруг решил, что публичное чествование, народное признание должны ее разогнать. Сперва он сомневался в правильности этой мысли, но, по своему обыкновению, принялся сам себя убеждать, спутав свою собственную жажду видеть чествование друга с приятностью такого торжества для самого маэстро, который настрого запретил ему сообщать кому бы то ни было о его приезде в Венецию. Сомнения только утвердили сенатора в его упрямстве. Нечто должно произойти, – а что именно, этого он и сам еще ясно не представлял. Сенатор, правда, побаивался, как бы маэстро не уехал вот так сразу – надумал и снялся; и прахом пойдет тогда весь его замысел, которому он с каждым днем придавал все больше значения!
Но тут случилось нечто, что его крайне удивило.
Уступив настояниям сына, он однажды утром явился к маэстро с просьбой – такою, что он и сам мало надеялся на ее исполнение. А именно: он предложил другу двенадцатого февраля из глубины ложи посмотреть в новой постановке «Власть судьбы». Маэстро нисколько не рассердился. Он только спросил немного недоверчиво:
– Почему тебе так хочется, чтобы я пошел в оперу? Ты же знаешь, я теперь хожу только в театр марионеток.
– Мой Итало ежедневно бывает там на репетициях и рассказывает мне чудеса про эту Децорци. Я думаю, тебе следует ее послушать. Может быть, стоит пригласить ее петь Корделию на премьере «Лира». Не упускай ее из виду, Верди!
– Да, Децорци я охотно послушал бы. Если бы только она пела какую-нибудь другую музыку, а не мою! И потом – меня могут увидеть и узнать.
– В этом положись на меня! Ты будешь сидеть совсем один в большой ложе у просцениума. Даже и я не зайду к тебе туда.
Сенатор долго убеждал друга, что он не подвергнется ни малейшей опасности. Итало пожелал чего-то, что связано было с маэстро, и сенатору очень хотелось склонить друга к исполнению этого желания: он истинно страдал оттого, что его сыновья не считают маэстро величайшим человеком на земле. Верди не отклонил предложения и не принял, однако на всякий случай распорядился взять для него билет в ложу авансцены.
Засим сенатор отправился в муниципалитет Венеции и попросил у мэра аудиенции, каковая немедленно была ему предоставлена.
IV
Какой-то теплый внутренний голос побудил маэстро еще раз навестить семейство Фишбеков. Он чувствовал себя чуть ли не обязанным заботиться о судьбе молодого человека, чья музыка показалась ему абсурдной, но к которому он все-таки питал глубокое, ему самому едва понятное уважение.
Итак, он купил в детском магазине на Кампо Сан Лука игрушку Для мальчика и, смущенно взяв под мышку большой неудобный пакет, пошел пешком до Фондаменто деи Тедески, где нанял гондолу, которая отвезла его в более будничную и бедную часть города – Санта Катарина.
Маэстро застал красивого, слишком тихого ребенка одного в комнате. Дверь в квартиру была открыта, так как Агата, хлопоча по хозяйству, сошла на минутку вниз.
Все еще не совладав со своим смущением, Верди распаковал игрушку (это была тележка с возчиком и лошадью) и поставил ее на пол перед Гансом. Большая, дорогая вещь испугала ребенка. Он робко смотрел на нее и не решался приступить к игре. Неодолимая грусть была в его движениях, – более сильная, чем та естественная грусть, что присуща единственным детям, вынужденным жить всегда среди взрослых. Маэстро так хотелось показать свою любовь, привлечь мальчика к себе. Всегда, когда он видел Ганса, его охватывала страстная растроганность, тоска по утраченному, которая за последние годы, наперекор рассудку, все сильнее возрастала в нем.