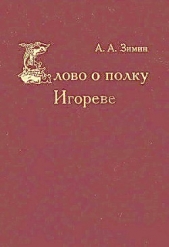Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)

Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987) читать книгу онлайн
Переписка Алексея Ивановича Пантелеева (псевд. Л. Пантелеев), автора «Часов», «Пакета», «Республики ШКИД» с Лидией Корнеевной Чуковской велась более пятидесяти лет (1929–1987). Они познакомились в 1929 году в редакции ленинградского Детиздата, где Лидия Корнеевна работала редактором и редактировала рассказ Пантелеева «Часы». Началась переписка, ставшая особенно интенсивной после войны. Лидия Корнеевна переехала в Москву, а Алексей Иванович остался в Ленинграде. Сохранилось более восьмисот писем обоих корреспондентов, из которых в книгу вошло около шестисот в сокращенном виде. Для печати отобраны страницы, представляющие интерес для истории отечественной литературы.
Письма изобилуют литературными событиями, содержат портреты многих современников — М. Зощенко, Е. Шварца, С. Маршака и отзываются на литературные дискуссии тех лет, одним словом, воссоздают картину литературных событий эпохи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что касается Александра Исаевича — я давно не видала его таким сияющим, сверкающим, счастливым. Он хворал: у него то и дело повышалось давление. Теперь выздоровел; лечил сам себя — голодом, продолжает держаться очень строгой диеты; похудел, помолодел — чудеса. Работает по 10–12 часов.
Вы спрашиваете, когда умерла Мурочка: в Крыму, в Алупке, 10/XI 31. А родилась 20/II 20 г.
Võsu. 25.VIII.70.Дорогая Лидочка!
Спасибо за добрую телеграмму, за обстоятельное письмо.
Сцену на шоссе Вы изобразили очень ярко. Понимаю Вас очень. У каждого из нас бывали и бывают такие встречи на шоссе, после чего несколько дней мысленно отплевываешься и отмываешь руки.
28/IX 70, Переделкино.Дорогой Алексей Иванович.
Спасибо Вам за Вашу тревогу. Нет, особенно тревожиться нечего: я уже почти выкарабкалась из последней болезни. Во всяком случае, я на ногах. И иногда даже работаю — пишу нечто под названием «Памяти моего отца».
Началась работа странно. Я записывала в блокнот что придется из вспомненного — без всякой связи — крупное, мелкое, словечки, случаи. Пробовала иногда строить план, набрасывать главки — ничего не выходило. В последнее время я навсегда отказалась от снотворных и потому меня терзают лютые бессонницы. И вот, с неделю назад, лежу ночью — и началась диктовка. Абзац за абзацем, главка за главкой мелькает какой-то рассказ. Я думала — вот высплюсь, потом встану и запишу. Но не выдержала, зажгла свет и записала сразу.
И так несколько ночей и дней подряд; черновик черновика, тень тени; пунктир. От этого до реального текста очень далеко. Но все-таки сейчас мне легче — словно нарыв прорвался. Сейчас я в Переделкине. Переехала очертя голову, внезапно. В последний месяц мы все время искали сторожиху, но безуспешно. А Митя и Аня с детьми и няней третьего дня переехали в город. Но дом этот оставить в одиночестве — грех. Я и поехала, захватив еду.
Все ахают, охают, а мне здесь отлично. Дом отапливается. Не очень, но чисто. Я совсем одна — оттого-то мне и хорошо. Работаю, хожу по саду… Сегодня 11 месяцев со дня кончины К. И. Приезжали ко мне Володя и Таня [468], мы вместе ездили на могилу. Желтые листья, много цветов, тишина — чудесно.
25.X.70.Дорогая Лидочка!
Рад, что у Вас пошла работа над воспоминаниями. Жду и очень хочу прочесть их.
Со мною этого чуда не произошло.
Очень трудно начать писать. Завидую В. П. Некрасову, так легко, изящно и безмятежно любовно написавшего Корнея Ивановича.
Мне следует рассказать об очень сложном моем отношении к К. И. О том, как он мне не нравился, и чем не нравился, и как случилось, что я вдруг полюбил его. И тут же я должен коснуться не менее трудного вопроса — сложнейших отношений: Чуковский — Шварц.
Можно, конечно, написать попроще, некрологически что ли. Но ведь писать следует (особенно в нашем возрасте) по внутренней потребности.
А тут еще приходится думать о проходимости почти каждого занесенного в тетрадь эпизода (имею в виду не только цензуру, хотя об очень многом из записанного говорить во всеуслышание, вероятно, не рекомендуется).
Знакомое Вам, гнуснейшее состояние, когда топчешься на месте и не знаешь — куда идти и идти ли.
Уже два месяца тянутся омерзительные письменные и телефонные переговоры о III томе. Переговоры, стоящие крови и нервов — собственно, я знал, что все это будет. И все-таки противно. Издатели угрожают, что — или купюры, или придется наполовину сократить этот и IV тома. Юридически сделать они этого не имеют права, но и выпустить книги в таком виде не могут — не позволит начальство.
Вступать в дальнейшие переговоры с издательством я отказался. Теперь жду — что будет.
Простите за невеселое, нервическое письмо.
31/X 70.Дорогой Алексей Иванович.
Вот, наконец, Ваше письмо. Оно грустное. Но я рада, что Вы его послали, — я люблю знать во всех подробностях, как Вы живете.
Чем-то кончится Ваше единоборство с издательством? Трудный Вы избрали путь и доблестный. От всей души желаю Вам успеха. А советовать, разумеется, не берусь. По себе знаю, что решать в конечном счете приходится самой.
Понимаю трудности для Вас и в работе над воспоминаниями о К. И. Особенно в той части, которая касается Шварца. О себе, о своих чувствах и о перемене своих чувств в силах написать каждый мужественный и правдивый человек. О чувствах другого человека — несравненно тяжелее. Но, зная писателя Пантелеева, думаю, что он справится с обеими задачами.
Вот справлюсь ли я? Сомневаюсь. Задачи я поставила себе труднейшие, а сил мало — и физических и душевных. И зрению уже приходит предел, конец.
Ленинград, 15.XII.70.Дорогая Лидочка!
Давно не писал Вам и по многим причинам.
Но главное, почему я не писал Вам, — это то, что я не мог выполнить данное Вам обещание. Не пишется у меня о Корнее Ивановиче. Мешают, как я понимаю, три обстоятельства: неподходящее время, неподходящее здоровье и — неправильно выбранный, трудный и рискованный сюжет. А писать попроще я не пробовал, не хочется. Такое сознательное снижение требований, продиктованное такими соображениями, вряд ли вдохновит на добрую работу.
Мои дела с Детгизом обстоят так. Пискунов предложил компромисс: набирать III том по сборнику «Живые памятники». Вообще-то это немалая победа: издательство отказывается от многих своих требований, от многих купюр.
15-го ноября книга должна была идти в набор. Но я написал, что не согласен, что могу разрешить набор лишь с «представленного мною и принятого издательством текста». В результате, как я теперь узнал, том в набор не пошел, «график сорван», делают макет четвертого тома. Но ведь четвертый вызовет, не может не вызвать, еще больших тревог и волнений у издателей. Только поэтому я и не пошел на предложенный мне и, казалось бы, приемлемый компромисс. Помня поговорку о том, сунь палец…
Все это не просто. Пишут читатели. (Ведь том опоздал на год!) Звонит художник: в чем дело? Ему задержали выплату денег по III тому!
Теперь Вы понимаете, в какой обстановке и на каких нервах я жил все это время, и, надеюсь, простите мне мое молчание.
27/XII 70.Дорогой Алексей Иванович.
Увидев Вашу руку на конверте, я сначала обрадовалась. Но письмо Ваше, милый друг, такое горестное…
И о Корнее Ивановиче Вам не пишется… Это для меня, конечно, великое огорчение; без Ваших воспоминаний всякий сборник памяти будет плоским. Я видела уже кое-что; не все — худо; однако яркого и глубокого пока ничего нет. Но, милый друг, что ж поделаешь? Я не вправе Вас корить. Лев Толстой уже давно сказал: «писатель пишет не о том, о чем хочет, а о том, о чем может». В Вашем желании я не сомневаюсь; но мешает, значит, что-то извне и внутри.
Не насилуйте себя. Будете здоровы — напишете — если потянет или если вдруг внутри что-то само решится.
Люшенька получила наконец отпуск и мечтала в январе-феврале пожить в Комарове и побывать у всех ленинградских друзей. Но Литфонд отказал в путевке, хотя я ничем не утруждала это заведение вот уже 6 лет. Даже Поликлиникой не пользуюсь. Говорили со мной очень неприязненно, и я жалею, что просила.
(Кстати: Александра Исаевича потихоньку исключили и из Литфонда. «Шалуны!» — писал в таких случаях Герцен.)