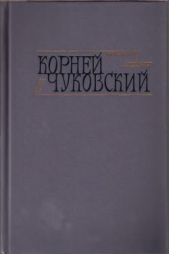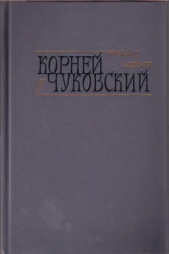Воспоминания о Корнее Чуковском

Воспоминания о Корнее Чуковском читать книгу онлайн
Воспоминания, представленные в сборнике, воссоздают в своей совокупности живой и правдивый портрет К. И. Чуковского. Написаны они в разном ключе — рядом с развернутыми психологическими этюдами, основанными на многолетних наблюдениях (К. Лозовская, М. Чуковская, Н. Ильина), небольшие сюжетные новеллы (Л. Пантелеев, Ольга Берггольц, А. Раскин, Е. Полонская), рядом со стихотворными посвящениями С. Маршака и Евг. Евтушенко и поэтическим образом, созданным в очерке А. Вознесенского, строгие описания деловых встреч и совместной работы в области литературоведения, лингвистики, переводов, а также на радио.
Детский писатель, литературовед и критик, журналист, переводчик и исследователь языка — все эти стороны многообразной деятельности К. И. Чуковского представлены в воспоминаниях современников. В мемуарах отражены отношения писателя с людьми — прославленными и никому не известными, близкими ему и чуждыми, взрослыми и детьми — и, главное, отношение его к литературному труду.
Среди мемуаристов читатель встретит имена известных писателей, художников, актеров.
Составители: К. И. Лозовская, З. С. Паперный, Е. Ц. Чуковская
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Дьячок искал в передней свои галоши, но долго не мог их найти, попал в чей-то валявшийся на полу картуз и ушел домой»
Или:
«Хозяйка вошла в избу и, доставая из рукава блоху, спросила…»
Корней Иванович пишет:
«В большинстве случаев Слепцов отмечал лишь те из человеческих жестов, которые дают представление о психических переживаниях людей. Когда, например, Щетинин в повести „Трудное время“ узнал, что его молодая жена стала для него чужим человеком, он схватил щетку и начал чесать себе голову. Чесал, чесал долго — кстати и комод почесал бессмысленный жест, но такой характерный для того, кто ошалел, растерялся и переживает душевную тревогу». [23]
К. Чуковский сумел расшифровать не только политическую «тайнопись» Слепцова, но как никто другой разгадал его художественную тайнопись. Необычайно интересна и статья о Н. В. Успенском [24]. Вся трудная, запутанная, окаянная жизнь Николая Успенского с какой-то пронзительной силой понимания и сострадания воспроизведена Чуковским. Тщательно, бережно, любовно он выделяет все в писательском и человеческом облике Успенского, что прочно связывало его с демократической традицией шестидесятников. По глубине и проникновенности эта статья, как и статьи о Василии Слепцове, принадлежит, как мне кажется, к самым талантливым страницам его многообразного и богатого наследия.
И еще одна всегда поражавшая меня особенность литературоведческих работ Чуковского (не только воспоминаний) — умение увидеть лицо писателя. В его статьях художник — существо вполне живое, полнокровное, то удивительно милое, родственно близкое самому автору, то неприятное, — но всегда лицо. И с каким блеском написаны работы, где этот принцип — показать лицо оказывается ведущим, становится своеобразной художественной задачей автора: «Григорий Толстой и Некрасов», «Дружинин и Лев Толстой», «Оскар Уайльд» и др. Особенно тонко, умно, ядовито написана статья о Дружинине («Дружинин и Лев Толстой»). А. В. Дружинин, человек, несомненно, умный, оставивший немало интересных критических страниц, но какой-то поразительно одноцветный, надменно-снисходительный даже в лучших своих работах, был воистину анатомирован социально, психологически, эстетически Чуковским. «Благодушный и грациозный дендизм» на поверку оказывался весьма далеким от благодушия и терпимости, несмотря на всякое — печатное и устное — прославление их.
«Один только Дружинин горел ровной и негаснущей ненавистью» [25], напишет К. Чуковский об отношении «русского лондонца» к Чернышевскому и его партии. Это лицо выписано с такой убийственной точностью и верностью оригиналу, что до сих пор воспринимается как одно из «живописных чудес» литературоведения.
Может быть, и в людей, с которыми он встречался, он вглядывался так пристально потому, что хотел увидеть лицо, разгадать характер, понять судьбу — от людей к книгам, от книг к людям, — всю жизнь этот постоянный процесс своеобразного самообогащения. Это как-то почти физически ощущалось рядом с Чуковским: все вбирает в себя, все впечатывает в свою колоссальную память. Я как-то шутливо его спросила: «Вы когда-нибудь что-нибудь забывали?» Ответил насмешливо, легко, быстро: «Забывал. У меня всегда была своя сортировочная: это — в дело, это — вон». И закончил уже вполне серьезно: «В жизни без слова „забудь“ слово „запомни“ не выживет. Трафарет, к сожалению, усваивается памятью лучше, чем все то, что его отрицает».
Вообще возможность господства «трафарета» в мыслях, чувствах людей пугала его несказанно. Стандартизацию в сфере духовной Корней Иванович воспринимал как что-то ужасное, почти безнравственное. «Мне так опостылели, — писал он в январе 1962-го, — стадные чувства, стадные фразы, стадные мысли, что я, естественно, радуюсь всякой индивидуальности, всякой недюжинности — и приветствую ее от души».
Тогда же, в январе 1962 года довелось мне услышать очень интересное суждение Корнея Ивановича о языке.
Поводом послужили письмо и рукопись воспоминаний сына известного русского писателя, умершего в эмиграции (Корнеи Иванович тогда хлопотал или собирался хлопотать об издании книги — сейчас уже не помню). Говорил об авторе письма как о человеке недюжинном, не лишенном литературного дара, наблюдательности, несколько раз повторил: «Надо ему непременно помочь». В моем блокноте сохранилась запись, сделанная в электричке вечером того же дня: «Пишет он неплохо, но иногда совершенно ужасно, появляются какие-то слепые фразы. Язык — среди чужих — уже не свой язык. Ему учатся дома, с малолетства, всю жизнь, на своей земле, среди своих сосен». Из этой первой встречи с Корнеем Ивановичем запомнился и разговор об Уитмене. Он показал мне несколько изданий Уитмена, стал с большим жаром говорить о нем. Было интересно, как всегда, когда он говорил, — увлекаясь, образно, многомерно, но Уитмен был далек от тогдашних моих литературных увлечений. Не знаю, как это почувствовал Корней Иванович, но он вдруг оборвал фразу на полуслове:
— Вам неинтересно! (С интонацией не вопросительной, а утверждающей.) И на мои слова: «Я его плохо знаю», — ответил:
— Не знаете и не любите. А я любил его и люблю, как любишь молодость и здоровье…
Положил руки на колени, повернул вверх ладонями, посмотрел пристально и добавил:
— Особенно в старости.
Поразила меня тогда же черта, удивительная в прославленном человеке, признанном наставнике, мастере, учителе, — скромность, порой совершенно неожиданная в своих проявлениях. Так, он мог написать с полной убежденностью человеку начинающему, неопытному, известному ему по одной-единственной работе: «…я по сравнению с такими одаренными молодыми людьми… чувствую себя таким бедным, невежественным, неумелым». И в этом не было ни малейшей рисовки. Он так действительно чувствовал. Очень внимательно относился к суждениям о своих работах и, как мне казалось, радовался, когда мог согласиться со своим оппонентом. Помню, как, прочитавши его книгу «Высокое искусство», узнавая на многих и многих страницах даже интонации Корнея Ивановича, непринужденность, живость и искренность его манеры, я, наткнувшись на оценку Бодлера, вдруг обиделась за этого «проклятого поэта» и написала К. И. Чуковскому, что, всегдашний и дерзостный враг всяческих расхожих представлений о литературе, он оговаривает Бодлера в духе почтенного профессора Ф. Батюшкова. В ответном письме он соглашался со мной с какой-то веселой готовностью: «О Бодлере Вы совершенно правы — и о Батюшкове. Этой зимой я прочитал „Цветы зла“ и не нашел там ничего одиозного». И в конце письма: «Бодлера отлично перевел Левик. Читали Вы его статью в „Иностранной литературе“? Левик чуть не со слезами просил меня выбросить из книги мой криводушный отзыв о Бодлере — и как он будет рад, когда я покажу ему Ваше письмо».
А вот что он писал 8 декабря 1962-го в связи со вторым изданием своей книги «Живой как жизнь»: «Книжка выходит чуть не вдвое толще. К стыду своему, я только после того, как она вышла в свет, прочитал классические труды о языке Пешковского, Шахматова, Булаховского и других. И стал вдвое умнее». Конечно, в последней строке есть легкое лукавство, но и в старости он начисто был лишен греха маститых — наставительности.
Помню, как, усадив меня выверять гранки сборника стихотворений Саши Черного, он сердито хмыкал в ответ на мои шутливые замечания: «Все-то ей не то, все-то ей не так и все хи-хи ерундовые», — но вдруг, наткнувшись на одну действительно неудачную строку, мы в один голос воскликнули: «Ну, это пошлость!» И, повернув ко мне торжествующее, довольное лицо, он победоносно заявил:
— Вот видите, я тоже вместе с вами сказал — пошлость!
Поразительна эта его черта, по-человечески необыкновенно трогательная. Наверно, потому, что он не умел быть «маститым», величаво-поучающим, монументально-непогрешимым, он и был так обаятелен, так прост, так необычайно естествен — и так дорог всем, кого хоть ненадолго и случайно сводила с ним судьба.