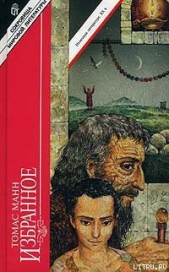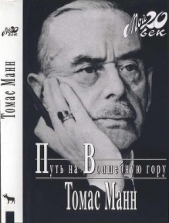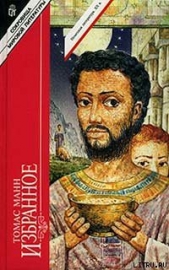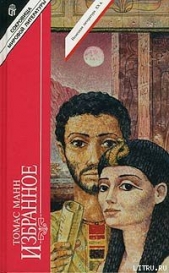На повороте
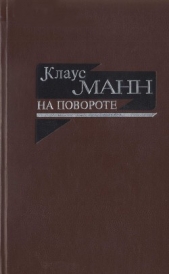
На повороте читать книгу онлайн
Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.
Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Знал ли он ответ на мои вопросы? Предлагал ли он программу? Нет, он мог предложить только свой пример, пример своей духовной целостности и храбрости, своего любопытства и правдолюбия, своего терпения, своей гордости, своей страсти, своей нравственности. Через него я узнал, что философия и вера, знание и любовь не исключают друг друга; ибо он был искушен во всех безднах человеческой души (феномен зла снова и снова возбуждал и занимал его чутье психолога), однако никогда посему не отказывался от своей веры в Добро в человеке, в способности улучшения нашей натуры: чем глубже этот неустрашимый ум проникал в мрачные тайны человеческой души, тем сильнее и постояннее горел свет его веры, его искушенной любви.
Его пример доказывал мне, что можно быть распорядителем и представителем великого культурного наследия и одновременно любимцем будущего, вестником и товарищем еще не родившихся поколений. Никакой писатель нашей эпохи не воспринял в себя больше преданий, больше духовного богатства прошлого, чем Жид, которого вдохновили и одарили все гении Запада: светлый дар Греции был ему столь же желанен, сколь и темное приданое, которое он унаследовал от пуритански строгих в нравственном отношении предков; питательно здоровый вклад Монтеня признан с такой же готовностью, как и проблематичное завещание того же Ницше, того же Достоевского; у Данте, Шекспира, Гёте можно научиться столь же многому, как и у мастеров собственной страны — Расина, Стендаля, Бальзака, Бодлера… Но какой ценностью обладало бы наследство, если бы оно не несло в себе зародыш будущего? Культурный консерватизм Жида никогда не был самоцелью; занятие вчерашним всегда у него имело отношение к сегодняшнему и к завтрашнему. То, что было, — он часто это говаривал — значило для него меньше того, что есть; существующее, однако, не так сильно захватывало его, как становящееся: то, что могло бы быть и, значит, однажды будет.
Он внушил мне, что каждому из нас дан свой собственный, индивидуальный закон, который опять и опять взыскует быть заново запрошенным и исследованным, опять и опять исполненным без оглядки на моду и предубеждение, без компромисса. Быть верным самому себе, в этом все дело. Кто предает себя самого, тот не сможет служить и сообществу, социальному целому. Чем независимее и последовательнее личность, тем больше вклад, который она совершит ко всеобщему благу! Individualisme serviable [111], впервые эту формулу Жид употребил в связи с Гёте. У своего немецкого маэстро нашел этот гражданин мира французской нации совершенное объединение свободы и чувства долга, именно тот индивидуализм, который заявляет о себе, но не подчиняется, который как раз в силу своей неуступчивой непреклонности может стать чрезвычайно полезным на службе обществу.
Пример Гёте. Хорошо, он был всегда. Но нам его приводили слишком уж часто: ему недостает прелести новизны. Гёте был для меня слишком далеким, слишком мраморным, слишком олимпийским. Жид был более чужим и одновременно более внушающим доверие — современник, почти старший брат и тем не менее человек, окутанный тайной. Разве не обладал он добродетелями, которые прославлял у Гёте? Было что у этого «старшего брата» узнать об individualisme serviable, к чему добавлялись еще и другие притягательные моменты.
Жид казался мне тем более приемлемым в качестве образца, что он явно не стремился производить впечатление образцового. Поза магистра была чужда ему; при всем величии он оставался проблематичным, всегда неудовлетворенным, всегда ищущим. Однако как раз тем, что он не определял себя, он себя находил; тем, что изменялся, он исполнял собственный закон.
В мгновения незрело-опрометчивого честолюбия я, наверное, желал себе стать возможно более похожим на эту истинную, неповторимую личность — Андре Жида. Однако чем больше я учился у него, тем отчетливее становилась для меня тщетность подобного чаяния. Уподобляться другому? Не к этому он нас побуждает. Гораздо больше относится к каждому из нас совет, который он в «Новой пище» возглашает своему условному другу и ученику:
«Не доверяй никому, кроме голоса собственной совести! Будь откровенен прежде всего перед самим собой! Познай свою собственную суть! Иди своим собственным путем! Стань тем, кто ты есть!»
Путь, который ведет нас к самим себе, к самопознанию и самоосуществлению, — это не всегда прямой путь; извилистейшая тропа может зачастую быть ближайшей. Кто слишком уж боязливо избегает темноты, может быть, никогда не сумеет найти света. На зыбкой основе — а кто из нас имел твердую почву под ногами? — легко проваливаются: разве только приспособить собственное равновесие ко всеобщей качке.
Склонность к причудливости и невоздержанности, разделяемая мной со многими моими ровесниками, не объясняется, конечно, только снобизмом и оригинальничанием. Что одному из старших поколений в искусстве могло казаться подозрительным или искаженным, было вполне соразмерным нашему вкусу и ощущению жизни: это соответствовало нашему опыту. Тому, который уже приобретен, и тому другому, который еще должен прийти. Что знало искусство девятнадцатого столетия, что знали эти идиллические романтики, реалисты и импрессионисты об удивительной действительности, которую знали мы или которая уже возникала перед нашими глазами? В ужасных видениях того же Пикассо, того же Руо {204}, того же Кирико она находила свое адекватное выражение.
Я любил задерживаться в мастерских крупных парижских художников и наблюдать мастеров за работой. Визит к Марку Шагалу, например, был как экскурс в сферы, с которыми до этого можно познакомиться только во сне: не без веселого удивления прогуливаешься по этому чарующе-заколдованному ландшафту. Пурпурные коровы на крыше русской избы, кроткий полет фиолетовых барашков, экстатические евреи-торговцы с развевающимися бородами и в кафтанах, оцепенелая улыбка влюбленных, блаженно лежащих в объятиях друг друга в глубине фосфоресцирующего неба, — всегда предчувствовалось, что подобное бывает. Хозяину дома — впрочем, большей частью слишком занятому, чтобы пускаться в длинные разговоры, — не нужно было ничего объяснять: в его мире летающих голов, переливающихся месяцев и взрывающихся цветов чувствуешь себя дома. Разумеется, закон силы тяжести эмпирической реальности здесь не действует; вместо этого, однако, имелось поэтическое равновесие, магическая логика, греза-баланс, законность которой — для нас — сама собой разумеющаяся. У Марка Шагала ничто не было сомнительным, наигранным или эксцентричным: все соответствовало истине, имело свою подлинность. Когда он заставлял распускаться цветы из стальных опор Эйфелевой башни, то речь шла не о милом капризе, а об интересном открытии; да, там были розы, как странно, что их до сих пор не заметили. Меж цветов парили, совершенно логично, отделившиеся головы Клер {205} и Ивана Голла {206}: лирически настроенная супружеская пара воспринималась на венчающем шпиле Эйфелевой башни гораздо правдоподобнее, да, гораздо рельефнее, чем в какой-нибудь из студий между Отей и островом Сен-Луи, где они тогда давали свои литературные приемы.
Эти Голлы, поэтические космополиты немецко-французского происхождения, помогли мне впервые войти в парижские «milieux littéraires» [112]. Благодаря их радушно-общительному посредничеству, я вступил в сердечный контакт со всякого рода колоритными фигурами, с Морисом Ростаном {207}, например, этим чересчур изящно-чувствительным, добросердечным сыном популярного Эдмона Ростана, и с остроумными мужами, как Леон Пьер-Квинт, критик и биограф, занимавший меня пикантными и поучительными, хотя и слегка жутковатыми анекдотами из vie intime [113] Марселя Пруста.