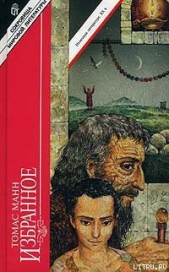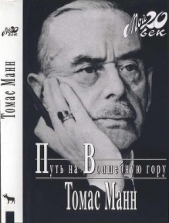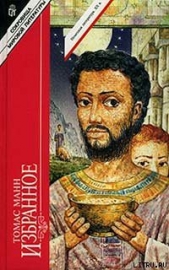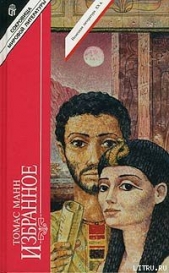На повороте
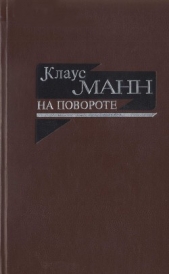
На повороте читать книгу онлайн
Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.
Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Так тебе и надо!» — хихикала Мопса Штернхейм, которой я только что рассказал, что хотел бы посетить ее папу в Баден-Бадене: он проводит там свой медовый месяц с моей бывшей невестой. «Старик совершенно рехнулся, — констатировало не без задора „дитя писателя“. — Знаешь, что он мне недавно написал? Он твердо решил на старости лет стать по меньшей мере столь же прекрасным, как господин генерал фон Сект {210}! Звучит довольно дурно, а?»
В отеле «Стефания» в Баден-Бадене господин и фрау Штернхейм принимали меня в столовой; за стол сели, не ожидая меня; у драматурга смокинг с бросающимся в глаза высоким жестким воротником, молодая супруга блистает в вечернем платье. Я не видал их обоих с тех пор, как мы с Эрикой собирались в большую поездку «вокруг света». «Ты хорошо выглядишь», — сказал я Памеле.
«Даже приблизительно не так привлекательно, как его превосходительство вон там», — замечает господин Штернхейм, бросив злобно-похотливый взгляд на соседний столик. Там пирует бывший шеф рейхсвера, элегантный старый кавалер с холеными белыми усами, моноклем и всеми причиндалами. «Ослепительно, а? — каркает драматург и добавляет агрессивно: — Violà un homme!» [117], при этом ликующе смеется. «Не правда ли, он нравится тебе, господин генерал?» Угрожающий вопрос обращен к Памеле.
Она говорит корректно: «Господин фон Сект — мой тип». Ее лицо с импозантным носом и широко раскрытыми, чистыми глазами остается неподвижным над неподвижным кружевным воротником. Она смягчает свой голос, наклоняясь через стол к супругу: «Ешь свой суп, дорогой!»
Однако он, вместо того чтобы сконцентрироваться на своей тарелке, продолжает превозносить элегантную фигуру генерала. «Орел! — восклицает он с внезапным раздражением, как если бы ему кто-нибудь возражал. — Его превосходительство и я, мы принадлежим к орлиному племени! А от вас, молодого поколения, проку нет. Ни размаха, ни выправки, ни породы. Хромые утки вы все, кто здесь сидит. Хромые утки — вся сегодняшняя молодежь!»
Это нацелено, очевидно, не только на меня, но и на молодую мадам Штернхейм, урожденную Ведекинд. Ее между тем это ничуть не тревожит, она лишь стеклянным гипнотизирующим голосом напоминает: «Суп, сокровище! Ты забываешь о своем супе!» После чего он окончательно отодвигает тарелку в сторону и сварливо настаивает: «Орел, говорю я тебе! В отличие от вас, хромых уток, в нас с господином фон Сектом ясно распознаются орлы!»
Генерал, который не может не ухватить какие-то отрывки штернхеймовской болтовни, кажется одновременно позабавленным и раздраженным. Сейчас, прикрывшись салфеткой, он что-то шепчет своей даме, скользя при этом по нашему странному обществу холодно-развлекающимся взглядом-моноклем. Я-то слишком хорошо знаю, что он говорит. «Только не смейся, Фридерика! — нашептывает его превосходительство. — Парень вон там назвал меня только что орлом!»
«Всерьез? — Генеральша хихикает вопреки его ожиданию. — Нет, каково! Окончательно спятил!»
Я ерзаю и потею от смущения, в то время как драматург дальше шпионит за нашими надменными соседями. Разве же он не прав, элегантный рубака, презирая интеллигента, который унижает и срамит себя подобным образом? Карл Штернхейм, язвительнейший сатирик, «циничного столетия полнейший всезнайка», как сам назвал себя, — и валяется на брюхе перед закрученными усами, подтянутой офицерской фигурой!
Поэтому мы проиграем войну, с внезапной болью ощутил я. Что еще за войну? Да нашу, естественно, извечную войну между милитаризмом и цивилизацией, между рыцарями-разбойниками и приличными людьми. На «нашей» стороне — стороне цивилизации — слишком много извращенного восхищения гнусным глянцем, жестокостью силы…
На следующее утро я возвратился в Берлин.
Через несколько дней после моего визита в Баден-Баден писателя Карла Штернхейма пришлось отправить в сумасшедший дом.
«Sei pazzo?» [118]
Это Венеция — ее переливающийся двойной свет, мавританская волшебность ее архитектуры, страстная песнь о Большом канале.
Две девушки и два молодых человека лежат, растянувшись, в одной гондоле — мы с Эрикой да еще один из моих друзей и наше «швейцарское дитя» Аннемари, эксцентричная наследница одной из старинных аристократических фамилий. Она честолюбива, нежна и серьезна, с чистым юношеским лицом под мягкими пепельными волосами.
Красива ли она? Когда она впервые обедала у нас в Мюнхене, Волшебник, оглядев ее со стороны со смесью опасения и удовлетворения, в конце концов констатировал: «Странно, если бы вы были юношей, то все равно, должно быть, считались необычайно милы».
Все же и в качестве девушки она красива. Французский писатель Роже Мартен дю Гар знал, за что благодарил ее, когда в одной из своих книг писал ей это посвящение: «Pour Annemarie — en la remerciant de promener sur cette terre son beau viage d’ange inconsolable…» [119]
«Швейцарское дитя! — увещевал я ее. — Не делай безутешным свое ангельское лицо! Что с тобой случилось?»
«Ах, ничего особенного, — ворчала она со своей слегка гортанной интонацией. — Или наоборот, самое разное. Есть так много печальных вещей».
«Например?»
«Мама снова рассвирепела на меня». — Она делает в слове «мама» ударение на первом слоге, что звучит особенно трогательно.
«Ну и что же!» — Я пытаюсь пренебрежительно пожать плечами.
Некоторое время не слышно ни звука, кроме тихого плеска, с которым гондола скользит по воде, маслянисто-покойной, зловонной, зачарованной воде Большого канала. Наконец Аннемари снова заговаривает. «Она была сегодня спозаранку прямо-таки взбудоражена, когда звонила мне из Цюриха. Нашей лучшей лошади не повезло на скачках, и вот за такое-то должна расплачиваться я. То бишь снова я лишена душевного равновесия и полна дурных инстинктов. Всегда одна и та же песня».
После новой паузы она приглушенно добавляет: «И о Тосканини я тоже не могу не думать».
«Артуре? Он тоже сделал тебе выговор по телефону?»
И Аннемари, «швейцарское дитя», вдруг поднимается с гневно посуровевшим лицом и темным пламенем во взоре: «Ударить его в лицо! Эта фашистская сволочь! Потому что он не захотел играть их идиотский гимн! И никто не протестует против чудовищности! Все идет своим чередом в Венеции, в Италии, в Европе, словно бы ничего не произошло! Это сводит с ума!»
Гондольер, который ничего не понимает, ободряюще улыбается громогласной иностранке. Очевидно, синьорина не совсем хорошо себя чувствует. Если он улыбнется, она успокоится и даст побольше чаевых. Однако она не успокаивается, как ни сверкает венецианец глазами и зубами. Вместо того чтобы ответить на щедрую улыбку, иностранка показывает красивому гребцу-слуге непримиримо-суровое лицо. «Дать ему пощечину! — все еще бормочет она с упрямым отчаянием. — Лучшему человеку, который у них есть! Их единственному великому человеку! И никто не протестует…»
«Sei pazzo», — ухмыляется гондольер.
«Are you mad?» [120]
…Мюнхен, лето 1929-го.
Место действия — огромный шатер на Терезиенвизе. В шатре толчется народ — двадцать-тридцать тысяч человек. Темно, только трибуна оратора ярко освещена. И оттуда, с освещенной платформы, доносится звук — отвратительный вой бешеного пса.
«Евреи! — лает ужасный голос. — Эти свиньи евреи виноваты. Кто же еще?»
Молодой парень совсем рядом с нами вдруг визжит, словно укушенный тарантулом: «На виселицу их! Перевешать! На виселицу еврейскую сволочь!» На что голос отвечает мерзко-шутливо: «Только терпение, соотечественник! Терпение приносит розы!»
Толпа ревет, ржет, сотрясается в кровожадной веселости.