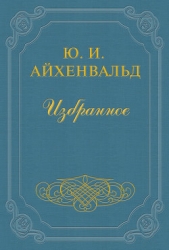Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
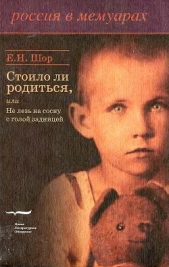
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Среди них попадались великолепные экземпляры. Сначала, когда я еще не умела перелезать через решетку — она доходила до живота взрослого человека, — Мария Федоровна, подобрав пальто и юбки (две: верхнюю шерстяную и нижнюю белую в сборку), перелезала через решетку, а потом я сама за ними туда лазила, а Мария Федоровна стояла на страже, смотрела, когда вдали, у Никитских ворот, появится трамвай, тогда я, спеша, перелезала через решетку обратно, волнуясь, как бы трамвай меня не настиг и не задавил.
Другие люди собирали сухие листья. Мы — нет, Мария Федоровна считала, что от них разводится пыль в доме.
Было ли это еще при бабушке или после ее смерти? Моя маленькая кровать с сеткой, через которую я не могла перелезть, стояла в бабушкиной комнате у стены столовой, и когда я просыпалась ночью — для взрослых это был вечер, они сидели в столовой, — мне полагалось стучать в стену, чтобы кто-нибудь пришел, если это было нужно. Но в этот раз, проснувшись, я постучала в стену, но никто не пришел. За стеной говорили, отодвигали стулья, бренчали ложки в чашках. Я стучала своими маленькими кулаками в стену, кричала, но мне было понятно по продолжавшимся звукам, что меня не слышат. Когда услышали и прибежали, было уже поздно, я стояла, ухватившись за верхний прут, на котором держалась сетка, и у меня текло по щекам и по ногам. Меня не бранили, а жалели и обвиняли себя, но я испытывала отчаяние от сознания своей двойной слабости.
Пестрота Тверского бульвара увеличивалась для меня тем, что я играла с иностранными детьми, не говорившими по-русски. Это была идея Марии Федоровны и проявление ее воспитательского рвения. Бабушка жаловалась на грубые слова, которые некстати употребляла Наташа, и Мария Федоровна устроила мне общение с детьми, которые вообще никаких русских слов не знали. В те годы дети из близлежащих посольств запросто гуляли на бульваре с русскими няньками и боннами, и познакомиться с ними было легко.
Сначала я играла с японцем, которого его нянька называла Коморсатой. Нянька говорила Марии Федоровне, а Мария Федоровна пересказывала дома, что отец Коморсаты был важным, очень важным военным лицом в своем отечестве. Это, разумеется, было приятно Марии Федоровне, ей хотелось уйти от своей нынешней жизни, и она слушала разговоры нянек с тоскливым сравнением, хоть понаслышке приобщаясь к где-то еще существовавшей настоящей жизни, что не мешало ей возмущаться тем, что дети этих высоких особ оставлены на невежественных нянек.
Коморсате было около трех лет. Мы копошились перед скамейкой, где сидели Мария Федоровна и нянька Коморсаты, до дня, когда мы с ним подрались из-за велосипеда и Мария Федоровна с нянькой рассорились. Мария Федоровна считала, что в драке виноват Коморсата, проявивший свой наследственный воинственный самурайский нрав, нянька говорила, что это я ударила Коморсату. Нянька была права: я била Коморсату. Я его била, потому что он был меньше меня, и если моя совесть была потом отягощена, то только тем, что я скрыла это от Марии Федоровны.
Этот акт насилия был не единственным.
Примерно тогда же (мне было около пяти лет) у нас в гостях была женщина с ребенком, совсем маленьким мальчиком, не старше трех лет. Взрослые разговаривали, а мы с ним пытались играть. По инициативе Марии Федоровны мне уже была куплена игрушечная лошадь, и у меня в руках была какая-то отвалившаяся часть ее деревянной подставки. Мальчик был чистенький, беленький, светловолосый, особенно бела, почти прозрачна была кожа на нежном виске с маленькими завитками тонких волос и голубой жилкой. Этот трогательный висок так потянул меня к себе, что я хватила по нему находившейся у меня в руках деревяшкой. Мальчик закричал, заплакал, мои взрослые были удивлены и сконфужены, а я отрицала свою вину.
После Коморсаты мы свели знакомство с турецкими девочками, которых звали (опять же согласно их няньке) Альтен и Гюльтен. Все шло хорошо, но они перестали ходить на бульвар, и Мария Федоровна пристроила меня к маленьким голландкам. Здесь ее воспитательная система потерпела крах: голландки устроили хоровод вокруг собачьей кучи. После этого я больше не играла с иностранными детьми.
Когда я поступила в школу, все времена года, кроме лета, были испорчены школьным принуждением, но и раньше, хотя я была счастлива и в городе, годы для меня считались по дачам: два года в Хорошевке — мои три и четыре года, четыре года на Пионерской — мои пять, шесть, семь, восемь лет.
На Пионерской участок, принадлежавший даче, был большой, и нам не везде разрешалось ходить, но там, где разрешалось, я гуляла одна, не как в Хорошевке — перед дверью дома, под взглядом взрослых.
Мы входили в дом со стороны, обращенной к железной дороге, там было крыльцо — маленькая площадка, к которой вело несколько ступенек. За дверью — шумная деревянная лестница на второй этаж, в летние помещения, которые сдавались дачникам. Мы снимали комнату под крышей, где бывало очень жарко, с маленьким балкончиком, выходившим в сторону, противоположную входу в дом. У балкончика, на котором еле помещались три человека, были очень широкие перила, на них Мария Федоровна расставляла блюдца с рыжиками в водке, они стояли на солнце, пока рыжики не делались черными — особый способ маринования.
Нижний этаж был теплый, с печами. Его занимали «зимники», то есть люди, жившие круглый год за городом. «Зимников» было две семьи, они входили в дом через две террасы, по одной с каждой стороны дома. Эти люди ездили каждый день в Москву на работу. С одной стороны жили Тыртовы. Мария Федоровна утверждала, что Тыртов — бывший царский генерал [7]. Он правда был какой-то окостеневший, деревянный, может быть, это были следы военной выправки, а может быть, просто старость: он был седой и краснолицый. (Я этих людей видела преимущественно сверху, с балкона, они не любили, чтобы ходили перед их террасой.) Жена его была тоже немолода — по словам Марии Федоровны, бывшая танцовщица-босоножка и красавица. Мария Федоровна произносила при этом имя Айседоры Дункан и говорила, что босоножки, танцуя, расшлепывают себе ноги, и у них некрасивые ступни. Эта женщина была высокая, с прямой спиной, с гордо поставленной головой, с четкими чертами загорелого, медного лица, особенно четок был ее профиль под кудрявыми волосами. Их сына звали Альберт, и в соответствии с таким именем (мне раньше, не знаю где, покупали печенье «Альберт», очень вкусное, круглое, с вмятинами-точками) он был красавец, кудрявый, как мать: его красивые волосы, ровно завитые природой, были хорошо видны с нашего второго этажа. В семье было не совсем благополучно, как нередко бывало в те годы: то ли Альберт попал в дурную компанию и его сажали в тюрьму по этой причине, то ли самого Тыртова сажали — не знаю, я ведь слышала о таких вещах краем уха, эти сведения не мне предназначались.
У Тыртовых была собака-фокстерьер (гладкошерстный, жесткошерстных тогда еще у нас не было), белый с черными пятнами, я видела, как он высоко прыгал (у Марии Федоровны когда-то была собака такой же породы). Фокстерьер ходил каждый вечер на станцию встречать хозяев, возвращавшихся из Москвы, пока его не задавил поезд. Тыртовы нашли его мертвого, с отрезанной головой, унесли и похоронили.
Мимо террасы других «зимников», Кестлеров, можно было ходить сколько хочешь, да и не могло быть по-другому, иначе нельзя было перейти из половины участка перед домом в половину за домом. У Кестлеров был сын Юра, старше меня на три года. Я с ним играла и бывала у них на террасе и в комнатах. Юрин отец был инженер, я думала, что все инженеры должны быть на него похожи, и позднее оказалось, что так оно и есть. Но Юрина мать была необыкновенная. Ее необычность происходила от болезни и вызывала любопытство и ужас. Еще не старая женщина (ей не было и сорока лет, и она не казалась старухой), она была иссохшей и желтой. От ревматизма (так тогда называли ее болезнь) у нее окостенели кисти рук, пальцы не сгибались, они как бы прилипли друг к другу и соединились в дощечку, отогнутую во внешнюю сторону. Она не могла держать в руке чашку или стакан и пила чай, втягивая его ртом через стеклянную трубочку. Взрослые говорили, что ей вредно жить в таком сыром месте, как Пионерская.