Бабанова. Легенда и биография
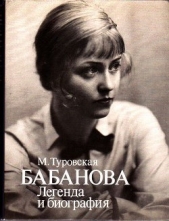
Бабанова. Легенда и биография читать книгу онлайн
"Марию Ивановну Бабанову ещё при жизни называли великой актрисой, «зримым чудом театра», живым олицетворением высочайшего актерского мастерства. Об этом говорили и писали режиссёры, писатели, поэты, драматурги и театральные критики. «Есть в искусстве Бабановой нечто завораживающее и подчиняющее зрителя и слушателя: невозможно сопротивляться обаянию ее игры или чтения. Ей и сопереживаешь и ею же любуешься; с ней не хочется расставаться. Причина лежит не только в ее неповторимой индивидуальности, но и в особом мастерстве, наразрывно слившимся с ее удивительной личностью» — писал П. А. Марков[3]. Такой уникальной актрисы, по утверждению М. И. Туровской, не было на русской сцене ни прежде, ни потом."
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И Завадский плох, и Бабанова нехороша, и Астангов, и Мартинсон, и Абдулов — сорвались, не вытянули, оконфузились».
Так суммировал «казус» «Бесприданницы» один из самых умных и колючих критиков той поры — А. П. Мацкин. Он не собирался соглашаться с этим расхожим мнением.
За громким провалом «Бесприданницы» начался парадокс «Бесприданницы»: мало какой спектакль нашел такую квалифицированную защиту в критике и таких горячих сторонников среди зрителей. Не так уж много их было, но те, кто подпал под обаяние этого неровного и странного спектакля, знали, чем он так их привлекает. Мацкин писал:
«Редко в пьесах Островского так пристально вглядываются во внутренний мир человека, как в новой “Бесприданнице”. Мы увидели драму не только чувств, но и сознания. Лариса и Карандышев — люди не просто отверженные, но и сознающие свою отверженность».
И о Ларисе:
«Трагический характер неравной любви хорошо понимает Бабанова, так хорошо, что порой кажется, будто печальная судьба Ларисы известна ей с самого начала…
Ее любовь — призрак, дорогой сердцу призрак, с которым трудно расстаться, потому что останется пустота… В этой любви нет надежды на лучшее, нет самозабвения. Лариса давно уже пережила крушение своей любви к Паратову.
… Несчастье не помутило ее сознание. Наоборот, все стало гораздо ясней, вернулось на свои места. Если Бабанова не вполне верит в свою любовь и как будто бы не заблуждается в ее иллюзорности, то отдает она ее, прощается она с ней так человечески-трогательно и человечески-нежно, что забываешь о всех своеволиях актрисы, о ее платьях, гриме, изысканности ее техники, странностях ее фантазии»[231].
Так из пепла поражения и провала восставала бабановская Лариса. Нестройно, как весь спектакль, но, как весь спектакль, необычно. Он оставлял где-то далеко в стороне привычные мотивы «цыганщины», «табора», игры страстей и денежного мотива гибели «бесприданницы», и в этом была почти пугающая новизна.
Спектакль, начавшийся радостно, в канун премьеры едва не умерший, на сцене обнаружил в сочетании своих недружных, рвущихся в разные стороны героев некоторый общий смысл, смутно пробрезживший в нем и обеспечивший этому «провалу» почетное место в истории русского театра. Смысл этот очевиден стал долгое время спустя, и вот отчего Лариса оказалась «преждевременной» ролью Бабановой, как преждевременен был весь этот спектакль с его явственно слышимым скрежетом и невольными диссонансами.
Вне всякой программы на первый план его вышла воспаленная драма самолюбия, притязаний и крушения «маленького человека» Карандышева. Герой {255} Островского очерчивался Мартинсоном с гоголевской остротой и надрывностью Достоевского. Он отбрасывал свою неспокойную, зазубренную тень в сторону белой и хрупкой Ларисы — Бабановой. По другую сторону ее вместо вальяжного и шалого русского барина возник романтический и холодный бретер Паратов в исполнении Астангова. Оба были заняты собой, как, впрочем, и все действующие лица этого красивого спектакля в поблекшей сине-золотой раме Дмитриевского портала.
Мысль Островского о всеобщем эгоизме и об одиночестве души среди веселого прожигания жизни приобретала в изящных мизансценах Завадского современную оголенность и резкую наглядность. Через четверть века это назовут «некоммуникабельностью». Распад человеческих связей станет болезнью века.
В полупровалившемся, не любимом актерами спектакле заметно игрались почти все роли. Пьяненький, траченный жизнью, а между тем не лишенный человеческой гордости Робинзон (Д. Орлов); энглизированный, спокойно-плотоядный Кнуров (О. Абдулов); кокетливая и деловитая хищница Огудалова (А. Богданова). Между ними, отстраненная от всех, завороженная своей мечтой, проходила Лариса — Бабанова, как будто была она не дочерью Огудаловой, не героиней драмы, на которой скрестились все вожделения, а {256} случайной гостьей из другого мира, вдруг очутившейся на перекрестке житейских бурь.
Это ощущение, что она «другая», «чужая», брезгливо сторонящаяся житейских интересов и страстей, — самое сильное, что осталось у меня от Ларисы.
Она ничего не ждала от окружающих и призрак своей любви несла не навстречу, а мимо — или, может быть, сквозь — демонического Паратова — Астангова, который в своей игрецкой страсти мог погубить ее, но не разбить мечту: ведь для нее он был вымыслом, идеалом, а не женихом или возможным мужем.
Для этой Ларисы дело вообще не шло о замужестве или приличном устройстве жизни.
В своем белом блестящем платье, с неуместной ренуаровской челкой — во всей своей прекрасной и необъяснимой нелепости — она не была ни русской, ни французской, но женственной. И эта чуждая быту и плотским страстям женственность, как никогда, была довлеющим себе напрасным и случайным даром. Она не была городской красавицей. Скорее — городской блаженной. Странной достопримечательностью, которую хотели получить, как редкость. Разыгрывали в орлянку не тело, а духовное превосходство Ларисы.
Вот почему и уходила она из жизни не в мятежном порыве отчаяния, а с полувздохом наконец наступившего покоя, почти что примирения с судьбой. Она уходила из спектакля так, как и пришла, — очарованным странником, все понявшим, все принявшим, всему подчинившимся и ничего не отдавшим житейским заботам и страстям. Ничего, кроме жизни.
Неуспех «Бесприданницы» Мария Ивановна переносила тяжело: иногда от нервности ей отказывал голос, и тогда она с трудом могла спеть даже романс, который с такой любовью и тщанием выбирала для Ларисы.
Не заладившись с самого начала, спектакль и дальше не сладился, не покатился по рельсам нарастающего успеха, как это было, положим, с «Собакой». Для участников оставался он таким же мучительным, хотя, играя вместе, они вроде бы и подобрели друг к другу.
Жена Абдулова, Елизавета Моисеевна, рассказала мне, как Осип Наумович «долго не мог приспособиться к роли, так как не находил контакта с Бабановой — а без любви к Ларисе Кнурова играть трудно. Примерно после десятого спектакля он пришел домой в восхищении от ее артистичности и мастерства. Он сказал: “Знаешь, я просто влюблен в нее, такая это актриса”. С тех пор и роль получила для него смысл».
Осип Наумович Абдулов был в Театре Революции человеком новым. Но даже и Орлов, который еще недавно патетически восклицал: «Как допустили ее?» — записал сочувственно: «Нервозность ее понятна (а мне ее состояние особенно понятно по работе в “Собаке”)»[232]. Может быть, продержись «Бесприданница» на сцене еще один-два сезона, она и состоялась бы вполне.
Но и неуспех «Бесприданницы» был не совсем обычный — уважительный, можно даже сказать, почтительный, в ореоле страстных критических полемик и внимания, какое не всегда выпадает даже на долю вполне благополучной премьеры. На спектакль приходили «знатные люди страны», как выразился Дмитрий Николаевич. Ходили много и из других театров — Москвин, Тарасова, Лемешев, — а это кое-что да значит: актеры по вечерам заняты в собственных спектаклях и не часто балуют друг друга вниманием. Приходили {257} слушать Бабанову и исполнительницы романсов — Тамара Церетели, Изабелла Юрьева.
И каждый раз, когда под звуки простенького вальса двигался занавес, открывая пейзаж провинциального городка с пузатыми карминовыми церковками, и Лариса под кружевным зонтиком долго, странно долго, как бы вовсе забывшись, смотрела в дальнюю даль, прежде чем произнести первые свои слова: «Я вчера за Волгу глядела», — в зале возникало предчувствие чего-то необычного, томительного, как звук лопнувшей струны. В роли Ларисы, сыгранной с «ушедшими нервами», на грани отчаяния, бабановская тема единственный раз обнажилась вдруг в своем почти бесформенном, «нерожденном» виде. И тогда в третьем «этюде о любви» оказалось, что любовь для нее не страсть, которую можно разделить с партнером, а несбыточность. Что в этой дисциплинированной, взнузданной волей душе жил порыв к вечно недостижимому идеалу — ограда ее женской неразбуженности.
Все эти мотивы были преждевременны на исходе прагматических и целеустремленных тридцатых. Роль, увы, не перешла рубеж войны, как иные бабановские роли, и осталась на ее пороге в своей полувопросительной новизне. Тридцать лет спустя «Бесприданница» Завадского стала бы сенсацией.

























