Бабанова. Легенда и биография
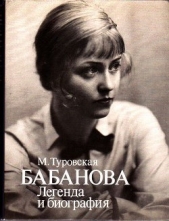
Бабанова. Легенда и биография читать книгу онлайн
"Марию Ивановну Бабанову ещё при жизни называли великой актрисой, «зримым чудом театра», живым олицетворением высочайшего актерского мастерства. Об этом говорили и писали режиссёры, писатели, поэты, драматурги и театральные критики. «Есть в искусстве Бабановой нечто завораживающее и подчиняющее зрителя и слушателя: невозможно сопротивляться обаянию ее игры или чтения. Ей и сопереживаешь и ею же любуешься; с ней не хочется расставаться. Причина лежит не только в ее неповторимой индивидуальности, но и в особом мастерстве, наразрывно слившимся с ее удивительной личностью» — писал П. А. Марков[3]. Такой уникальной актрисы, по утверждению М. И. Туровской, не было на русской сцене ни прежде, ни потом."
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Следующий акт — «вторая пьеса» «Тани» — остался, как мне кажется теперь, до конца не понятым в своем истинном значении. Его расшифровало время и заставило автора переписать «Таню». Потому, опуская первый вариант пьесы, романтика которого принадлежала времени «Города на заре», я обращусь сразу ко второму, где не было уже ни утопического Стальграда, ни перекрестка дорог, где встречались «обыкновенные герои» — девушки-хетагуровки, старый еврей-колхозник и охотник Игнат Соколов, — ни вредителей и пограничников — всего этого предвоенного комплекса романтических мотивов, — а появился более реальный управляющий золотопромышленным районом Игнатов. Война как-то разом отрезала юношескую романтику раннего варианта пьесы.
Принято считать, что во второй половине пьесы Таня, сделавшись врачом, обретала шаг за шагом искомую полноту личности и, может быть, даже (так хотел думать автор) новую, более зрелую любовь. Что она, согласно эпиграфу, почерпнутому не откуда-нибудь, а из Микеланджело, становилась «более совершенным творением».
Так думали автор, режиссер, критика, даже, быть может, сама актриса.
{242} Долгое время мне казалось странным, что Мария Ивановна всегда говорит о роли как о роли, никогда — как о живом человеке. (Так, естественно, относилась к своим героиням актриса Художественного театра Ольга Леонардовна Книппер-Чехова и даже трагическая героиня Камерного театра Алиса Георгиевна Коонен.) Она высказывает суждения о людях — справедливые или несправедливые, о себе (чаще всего несправедливые), но никогда — о людях, которых она играла.
«Сверхсознание», о котором говорил Станиславский, интуиция живут в ней природно и неведомо и управляют техникой, которая всегда кажется ей бледной копией истинного образа и требует немыслимого совершенства. Редкий и мучительный дар, усугубленный и канонизированный школой Мейерхольда.
Как раз в «Тане», как нигде, Бабанова сформулировала смысл роли.
Во второй половине «Тани» появлялась женщина со взрослым, даже деловым голосом и резковатыми самостоятельными манерами. Колоратурное сопрано менялось на драматическое.
Может быть, в «Тане» Бабанова впервые вышла на сцену взрослой женщиной. Взрослой, умной, ироничной и… несчастливой. Сильнее — да, ее героиня становилась сильнее. «Совершеннее» — едва ли; сыграть счастливую полноту женской зрелости Бабановой не было дано никогда.
Здесь мы вступаем в область, которую можно назвать, по слову Алперса, «личной темой» Бабановой. Ее биографы — и она сама — склонны думать, что женская тема, тема женской любви, чужда ее таланту. Уточним: речь идет о половой любви. Но ведь любовь — это нечто гораздо большее, чем «секс», — это огромная, неисчерпаемая область детских, отроческих, юношеских чувств — той «невинной» любви, вечное тяготение к которой удостоверено мифом об Адаме и Еве и о потерянном рае. Этот потерянный рай, как никто, умела реализовать на сцене Мария Ивановна Бабанова.
Дальше было познание добра и зла, и воспоминание о горечи этого познания в том или ином виде жило в ее созданиях. Любовь была для нее синонимом зависимости. На уровне идеологии речь шла о равноправии. В «Тане» она начинала с любви, чтобы прийти к независимости — не как к счастью, но как к свободе. Это проницательно заметил самый молодой из биографов Бабановой, М. Иофьев, в своем этюде «Искусство Бабановой». «Бабановская женщина вообще опасается любви, — написал Иофьев, — хотя бы счастливой, взаимной и равноправной. Власть эмоции — власть стихии, а героиня желает быть полновластной. … Всегдашние восстания против покорности, зависимости — от кого-либо, от чего-либо — заставляют восставать против любви»[223].
Бабановская Таня «второй пьесы» восставала против любви, которая сидела в ней, как осколок в теле раненого солдата.
Вторая половина «Тани» еще гораздо больше, чем первая, создавалась в «тройственном несогласии» автора, режиссера и актрисы.
Склонившись вроде бы к «суровой прозе» и заменив романтического охотника крупным хозяйственником Игнатовым, Арбузов не изменил главного: условного театрального жанра своей пьесы со всеми ее «нечаянными» совпадениями, с крепкой кольцевой замкнутостью ее сюжета. Если в первой картине, празднуя годовщину своей любви, Таня спрашивает: «Интересно, что с нами будет в тридцать восьмом?», то последняя картина, рифмуясь с первой с той буквальной полнотой, которая сегодня даже в поэзии кажется уже «избытком информации», происходит в том самом тридцать восьмом году, в тот {243} самый день, который снова сводит под одной крышей тех же самых людей: Таню Германа, Шаманову и их сына — тоже Юрика, — спасенного Таней.
Режиссера раздражала эта «тенденция к округлению каждого образа». Ему казалось, что драматургом движет «боязнь того, что зритель может так подумать: … а что если она опять встретит своего бывшего мужа, может быть, старая любовь повернет ее обратно?»[224] Все дело было в том, что Лобанов, как, впрочем, и критика, хотел видеть в «Тане» ту реалистическую пьесу, ту «психологическую драму», которой так недоставало тогда нашему театру. В этом качестве «Таню» любили играть актрисы. Играть, не мудрствуя лукаво, «по правде», вовсе не задумываясь об особой жанровой природе пьесы.
Лобанов работал над «Таней», скрадывая подробностями жизни сентиментальную дидактику пьесы. На эти подробности Андрей Михайлович был великий мастер. Для зрителя имели неизъяснимую прелесть самые простые, житейские, узнаваемые черты милого человеческого житья-бытья. Какое-нибудь приготовление винегрета, отмечающее дружеское расположение Тани и Игнатова, со всеми его «вкусными» ухищрениями, или мирное чаевничанье Тани и Шамановой у постели выздоравливающего Юрика, призванное своею домашностью уравновесить мелодраматизм встречи Тани с Германом, сами по себе составляли маленькие «именины сердца». Нам, зрителям, тоже казалось это самым что ни на есть реализмом.
Действительно суровую ноту вносила во «вторую пьесу» «Тани» Мария Ивановна Бабанова.
Однажды вкусив от горького плода познания, Таня не могла обрести новый рай на двоих, хотя бы и с человеком покрупнее калибром, чем ее Герман. В первую, случайную еще встречу с Игнатовым она чуть больше, чем следовало бы, настаивала на одиночестве и самостоятельности, гарантированной наконец-то полученным дипломом. Но, право же, речь шла не о том, что «только работа может принести человеку истинное счастье. Все прочее выдумка, ложь!». Ничего такого бабановская Таня не думала, просто старое саднило и она защищалась резкостью.
Не могла актриса принять и дружескую руку помощи, протянутую режиссером: пусть не новая любовь, пусть хоть возможность ее в будущем, зародившаяся в житейских пустяках, в каком-нибудь совместном приготовлении винегрета.
Арбузов обожал эти шуточные метафоры, витиевато-низким штилем житейской прозы выражающие высокие чувства: «Что такое истинное счастье, я узнал только неделю назад, когда… отведал вашего соуса к винегрету». Лобанов возвращал метафорам скромную поэзию истинного существования.
Во всем этом актрисе годился только юмор. Ей чужда была приподнятая нота арбузовского финала: «… словно не прожит еще ни один день жизни и только юность кончилась!» Но не с руки была и мудрая постепенность лобановских подробностей жизни по известному принципу «перемелется, мука будет». Она готовила свой «винегрет» о другом.
О том, чтобы, отказавшись от участия, за которым приплелась она к Игнатову (накануне по Таниной нерешительности умерла ее пациентка), опять и снова принять жизнь на собственный страх и риск. Ловко орудуя над соусом, посмеиваясь и пошучивая, Татьяна Алексеевна (ни одной из очаровательных инфантильных интонаций не оставляла себе актриса) решала не упоминать при Игнатове о приближающейся пурге и идти на лыжах к больному за тридцать километров. Это она-то, которая еще не так давно заблудилась в Сокольниках! {244} И когда отрывисто-грубо объясняла она Игнатову свое вроде бы внезапное решение: «Так сказать, совесть заела», — это было еще одно испытание души на одиночество, не бояться которого хотела Бабанова призвать своих товарок.

























