Бабанова. Легенда и биография
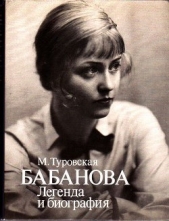
Бабанова. Легенда и биография читать книгу онлайн
"Марию Ивановну Бабанову ещё при жизни называли великой актрисой, «зримым чудом театра», живым олицетворением высочайшего актерского мастерства. Об этом говорили и писали режиссёры, писатели, поэты, драматурги и театральные критики. «Есть в искусстве Бабановой нечто завораживающее и подчиняющее зрителя и слушателя: невозможно сопротивляться обаянию ее игры или чтения. Ей и сопереживаешь и ею же любуешься; с ней не хочется расставаться. Причина лежит не только в ее неповторимой индивидуальности, но и в особом мастерстве, наразрывно слившимся с ее удивительной личностью» — писал П. А. Марков[3]. Такой уникальной актрисы, по утверждению М. И. Туровской, не было на русской сцене ни прежде, ни потом."
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Ташкенте надо было начинать почти с нуля. Декорации застряли где-то еще по дороге из Минвод. Возобновлять спектакли приходилось подручными средствами. Но о невозможности, тем более о неудобствах речи не было. Не только декорации строили — оркестровые партитуры записывали по памяти. Ноты тоже пропали в пути.
11 января 1942 года театр начал играть в помещении Дома офицера. На открытии дали «Весну в Москве» — последнюю предвоенную премьеру, которая самим названием напоминала о доме, о недавней довоенной жизни. Стихотворная пьеса Виктора Гусева, только что казавшаяся пустячком, приобрела новый смысл и новое значение. Что же говорить о «Тане»!
Из «бабановских» спектаклей удалось восстановить «Таню» и каким-то чудом «Собаку на сене». Сложные конструкции «Ромео и Джульетты» погибли безвозвратно, и поставить заново на маленькой клубной сцене многофигурную композицию А. Д. Попова не представлялось возможным. О «Бесприданнице» Мария Ивановна не очень жалела (хотя и было о чем пожалеть).
Зато она снова репетировала — теперь уже для сцены — роль Шуры Азаровой. Пылкого поручика Ржевского играл ее всегдашний партнер Лукьянов, Кутузова — Абдулов. Художником спектакля был приглашен Александр Григорьевич Тышлер.
Из беседы с Ф. Я. Сыркиной
«Тышлер попросил меня достать ему в библиотеке рисунки военных костюмов — гусарских, драгунских, — это было мое знакомство с будущим мужем. Женские костюмы были легки: ампир, высокие талии. Но любой костюм был тогда задачей — делать-то не из чего.
Дошло дело до Бабановой. В начале пьесы, где Шура Азарова — девочка, ей нужно было сделать платье. Тканей не было, а нужно было создать стиль восемнадцатого века, ампир. Тышлер попросил меня на вискозе — зеленоватый тон был уже сделан — нарисовать красные розочки. Мучились очень, пока получилось то, что он хотел, — приходилось рисовать их маслом от руки, трафарет не годился. Но мы еще не знали, что нас ждет.
Мы пошли с этой тканью к Бабановой. Помню — солнечный день, и на улице под ее окном стоят два наших главпоста (они всегда ходили вместе) и зовут: “Мария Ивановна!” — прямо Бобчинский и Добчинский. Она глянула из своего бельэтажа — и это было совершенно в жанре сцены, непроизвольно и естественно, — она сразу же включилась в игру. Но что было, когда она увидела мою ткань! Она кричала, что это не годится — просвечивает, будет толстить, что все не то. Сколько мучились мы, Тышлер, портные, пока сделали для нее платье, в котором она была на сцене не более пятнадцати минут. Зато военный костюм был очень по ней, пригнан, сидел очаровательно.
{266} Интересно, как она смотрелась на костюмной репетиции. Сначала вышли все женщины, но они еще были в платьях, а она уже в образе — какая-то другая, удивительная какая-то. Это уже не была та капризная актриса, которая так меня злила. Она уже пробовала, ходила по сцене другим шагом. Это меня удивило. Обычно актеры просто подходят к рампе и показывают костюмы, а она не показывала, она была в образе.
Потом женщины сошли в зал и вышли мужчины. Они были не в лосинах, конечно, но в белых таких чулках, вместо лосин, И вдруг я слышу сзади Марию Ивановну: “Боже, какие уроды! Что же делать-то будем?” Они, правда, оказались все кривоногие, кроме Лукьянова. У него были стройные красивые ноги. Пришлось подправлять, делать им толщинки. И Мария Ивановна смотрела на все это как-то очень активно, с такой позиции, что ей с ними на сцену выходить. Ее реплики были непосредственные, но довольно острые, как будто их тут нет или примерка идет на манекенах».
Режиссер Майоров предоставил Марии Ивановне на сцене честь и место — спектакль был поставлен гастрольно, для актрисы, — это опять был «театр Бабановой». Снова Мария Ивановна должна была выступить в оставленном было качестве травести, — зритель на сей раз был сообщником ее переодевания. Волею автора она без обиняков приобщалась к любезной ее сердцу традиции старой русской сцены. В то же время в старинном обличье корнета Азарова так же без обиняков могла она выразить свою излюбленную мысль: кавалерист-девица была эмансипированной женщиной эпохи александровского ампира.
Всегда очень чуткая к музыке стиля, Мария Ивановна стала очаровательным, почти что кукольным, как старинные оловянные солдатики, корнетом Азаровым в высоком кивере, живописно сдвинутом набекрень, с большой саблей и задорной мальчишеской улыбкой.
Из беседы с А. Г. Тышлером и Ф. Я. Сыркиной
«— Я сделал ей гусарский костюм — она ведь капризная была, но все-таки сделал. Сидел он очень хорошо. Она была прекрасно сложена, молодо выглядела, пропорции замечательные, и все было точно. В Ташкенте оказался ленинградец, специалист по военной форме, он помогал нам. Как она в гусарском костюме двигалась! Какая была одновременно и женственная и мальчишество в ней было — она все это играла и вместе с тем сохраняла женственность.
— Но при этой женственности она не была травести, не было в ней этой лихости напускной…
— Образ ведь опасный, я был перепуган немного, но все же мейерхольдовская школа сказалась. В сущности говоря, Бабанова и Абдулов, они вдвоем — это был концерт, самый настоящий, на них все держалось.
— Он был очень похож на Кутузова, хотя и хромой. Но верилось, что это старые раны.
— Не то чтобы прямо похож, но был полководец. На них все держалось, весь смысл и стиль.
Мое положение художника спектакля было очень трудное. Война. Никаких материалов для декораций нет. Мне сказали: вот эта ткань есть у нас — сатин такой зеленоватый, фисташковый, — а больше нет ничего. Я стал думать. У меня был сделан рисунок — лошадка вздыбленная и гусар {267} на ней. Я подумал — надо из него трафарет сделать и разбросать по всей ткани; такие лошадки восемнадцатого века, вроде ситца набивного. Я, конечно, не для трафарета рисовал — просто образ схватить хотелось, но это стало фоном всего спектакля. В этом был образ эпохи. И архитектура очень легкая — портал и окна, вот и все.
— Но это же был не только прошлый век! В ту пору этот спектакль прозвучал актуально. Не было еще ни “Фронта”, ни других пьес о войне, которые потом всюду шли. Было еще отступление, спектакль звучал патриотически, шел всегда с аншлагом. В Ташкенте это был первый спектакль о войне. И Бабанова в довольно мелодраматической роли умела вызвать глубокие чувства, настоящие. Схемы не было — была тонкость чувств. Она с грустью расставалась с домом, с куклами, и эта девочка, которая из спокойного дома идет на войну, — все это звучало очень современно. А в гусарской форме, когда она была мальчиком и похлопывала громадных гусар по плечу или прибегала после боя — в ней была правда поэтическая. И она была сложной, менялась, как волна — то пенилась, то голубела, то была черная от гнева. Сказывалась натура. Вот такое чувство она у меня оставила».
Мария Ивановна, как всегда, стройно и отчетливо двигалась: лихо козыряла, щелкала каблуками, порой грациозно сбивая своего безусого вояку на девичью плавность. Она прелестно пела, хотя ей стоило труда «посадить» свой чистый, высокий голос, когда надо было сыграть пьяного, отчаянно ревнующего корнета. С одной стороны, ревновала она, Шура Азарова, поручика Ржевского, успевшего приглянуться ей в девичьем еще ее состоянии; с другой стороны, ревновал к ней — то есть к нему, корнету {268} Азарову, — тот же Ржевский залетную французскую певичку. Бабанова с ее техникой миниатюриста очаровательно оттеняла все qui pro quo этого двойного притворства: мужскую грубость, которую нагоняет на себя корнет по отношению к француженке; панибратство к Ржевскому, сквозь которое прорывается невольная нежность; капризные слезы обиды в удалой песне и неподдельное волнение уязвленного любовью девичьего сердца. Если «Питомцы славы» могли посчитаться четвертым «этюдом о любви», то это была шаловливая, романтическая любовь, которую так умела показывать Бабанова.
А как легко становилось мнимому Азарову, когда приходилось отвечать на прямой вопрос Кутузова, не женщина ли корнет, — бабановская правдивость рвалась ему навстречу. В ситуации комической и плачевной актриса не боялась звенящей ноты в голосе, когда ее Шура отстаивала свое право защищать родину наравне с мужчинами, — это была частичка бабановской темы и частичка темы военной.

























