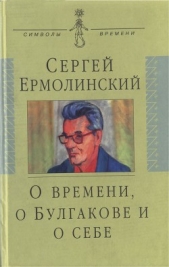Воспоминания о Михаиле Булгакове
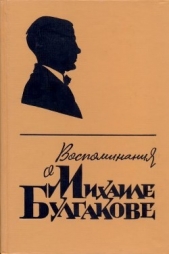
Воспоминания о Михаиле Булгакове читать книгу онлайн
О Михаиле Булгакове вспоминают К. Паустовский, В. Катаев, Э. Миндлин, С. Ермолинский, В. Виленкин, Р. Симонов, М. Яншин, М. Прудкин. Они рассказывают о начале литературного пути писателя, о его работе в театре, о жизни и творчестве последних лет. В сборник включены воспоминания Т. Н. Кисельгоф, Л. Белозерской, дневниковые записи вдовы — Е. С. Булгаковой, материалы из семейного архива.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отвечать прямо никто не решался, это казалось рискованным.
Елена Сергеевна на другой день записала в своем дневнике: «Вчера у нас Файко, — оба, Марков и Виленкин. Миша читал «Мастера и Маргариту» — с начала. Впечатление громадное. Тут же настойчиво попросили назначить день продолжения. Миша спросил после чтения: а кто такой Воланд? Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не скажет. Я предложила ему написать, я тоже напишу, и мы обменяемся. Сделали. Он написал: Сатана. Я — дьявол. После этого Файко захотел так же сыграть и написал на своей записке: «Я не знаю». Но я попалась на удочку и написала ему: «Сатана».
А я еще помню, как Михаил Афанасьевич, не утерпев, подошел ко мне сзади, пока я выводил своего «Сатану», и, заглянув в записку, погладил по голове.
Но его интерес к впечатлениям слушателей вовсе не означал, что он ждет похвал и восторгов. Это я испытал на себе.
После предпоследнего, кажется, чтения, когда мы уже одевались в передней, он отвел меня в сторону, зажал куда-то в угол и очень настойчиво стал меня допрашивать, что именно мне не понравилось: «Я уже почувствовал, что было что-то, — ну скажите, не бойтесь, я не обижусь, мне это нужно!» В этом была такая искренность и такая требовательность, что мне пришлось к конце концов выжать из себя что-то, чего мне ему говорить не хотелось. Мне действительно никогда не нравились некоторые главы, связанные с Маргаритой, ни тогда, ни потом: «Полет», «Великий бал у сатаны». Они мне и теперь чужды, не влезают в мое восприятие романа. Но весь роман в целом тогда заслонил для меня даже «Белую гвардию», особенно в этом его незабываемом, необыкновенном чтении.
27 апреля у меня в дневнике: «Фантазия беспредельная, иногда даже страшно, что человеку такое приходит в голову. Композиция сложнейшая, масса разных линий, которые то прерываются, то опять возникают. Половина действия происходит теперь, другая — в древности (Иешуа Га-Ноцри и Понтий Пилат), эта — особенно сильная, могучая. Захватывает так, что в третьем часу не хотелось расходиться. Лег в четыре и во сне не мог отделаться, — опять Булгаков читал все сначала, как всегда отрывисто, четко, сухо, синкопами и напорами ритма».
Последнее чтение длилось до утра. За столом, на котором был наспех накрыт не то ужин, не то завтрак, я сидел рядом с Михаилом Афанасьевичем, и вдруг он ко мне наклоняется и шепотом спрашивает: «Ну, как, по-вашему, это-то уж напечатают?» И на мое довольно растерянное: «По-моему, нет» — совершенно неожиданная бурная реакция, уже громко: «Но почему же?!» [77] Он ведь никогда ничего не писал, как говорится, в стол, келейно, для себя. Он был уверен, что если и не завтра, то рано или поздно все равно то, что он написал, станет достоянием литературы, дойдет до широкого круга читателей. Моменты отчаяния, конечно, бывали у него, но, как я уже говорил, не они определяли его писательское самочувствие. Он не сдавался.
Весной 1939 года мы с Марковым и Сахновским вновь стали настойчиво уговаривать Булгакова написать для МХАТа пьесу. «Это очень важно», говорил нам Немирович-Данченко.
Первые разговоры об этом начались еще в сентябре предыдущего года. Однажды мы просидели у Михаила Афанасьевича с 10 часов вечера до 5 утра, — это был труднейший, болезненный и для него, и для нас разговор. Никогда я еще не видел его таким злым, таким мстительным. Чего только не было сказано в пароксизме раздражения о театре, о Станиславском, о Немировиче-Данченко (его Булгаков вообще не любил, не принимал ни как человека, ни как художника и не скрывал этого; по существу, он его мало знал, ни в одной работе с ним не сталкивался непосредственно. Если бы он знал, как проникновенно воспринимал и как горячо отстаивал Владимир Иванович все самое глубокое и важное, все истинно булгаковское при выпуске спектакля «Последние дни» в 1943 году, незадолго до своей кончины!..). Но прошло несколько месяцев, и атмосфера разрядилась. Что ему самому явно хочется писать, мы почувствовали, когда он еще был настроен непримиримо.
Театр предлагал Булгакову осуществить его давний замысел и написать пьесу о молодом Сталине, о начале его революционной деятельности. Тем, что подобная тема предлагалась именно Булгакову, заранее предопределялась ее тональность: никакой лакировки, никакой спекуляции, никаких фимиамов; драматический пафос может родиться из правды подлинного материала, подлежащего изучению, — конечно, если только за него возьмется драматург такого масштаба, как Булгаков.
Когда в первый раз мы заговорили с ним о теме пьесы, он ответил:
— Нет, это рискованно для меня. Это плохо кончится.
И тем не менее начал работать. У него давно уже были заготовки пьесы о молодом Сталине, и в театре об этом знали от него самого. В дневнике Елены Сергеевны есть запись от 7 февраля 1936 года: «…Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине».
Почему Булгаков решил написать пьесу на эту тему? По этому поводу существует уже довольно прочно сложившаяся легенда: «сломался», изменил себе под давлением обстоятельств, был вынужден писать не о том, о чем хотел, с единственной целью — чтобы его начали наконец печатать и ставить на сцене его пьесы. Независимо от того, кто эту легенду пустил в ход или хотя бы принимает ее в качестве домысла, я свидетельствую, что ничего подобного у Булгакова и в мыслях не было. Мое право на свидетельство — в том, что работа над этой пьесой в 1939 году протекала на моих глазах и что Михаил Афанасьевич говорил со мной о ней с полной откровенностью.
В дневнике Елены Сергеевны за 1939 год есть запись от 19 августа, сделанная ею уже во время последней болезни Михаила Афанасьевича: «Утром звонки… Потом — Виленкин, после звонка пришел. Миша говорил с ним, что у него есть точные документы, что задумал он эту пьесу в начале 36-го года, когда вот-вот должны были появиться на сцене и «Мольер», и «Иван Васильевич».
Прямого разговора о том, что побуждает его писать пьесу о молодом Сталине, у нас с ним не было ни разу. Могу поделиться только тем, как я воспринимал это тогда и продолжаю воспринимать теперь. Его увлекал образ молодого революционера, прирожденного вожака, «героя» (это его слово) в реальной обстановке начала революционного движения и большевистского подполья в Закавказье. В этом он видел благодарный материал для интересной и значительной пьесы. Центральную фигуру он хотел сделать исторически достоверной (для этого ему необходимо было изучение не только общеизвестных, но и архивных материалов, на возможность которого он с самого начала рассчитывал, но которое так и не удалось осуществить), и в то же время она виделась ему «романтической» (тоже его слово).
4 июня он читал мне пять картин, еще не отделанных окончательно, из одиннадцати задуманных. И рассказывал о том, что будет дальше. Об этом есть записи в дневнике Елены Сергеевны и в моем дневнике, обе от 5 июня. У нее так:
«Миша рассказал и частично прочитал написанные картины. Никогда не забуду, как Виленкин, закоченев, слушал, стараясь разобраться в этом». У меня: «Вчера был у Булгакова. Пьеса почти написана. Впечатления: «ах!» не было ни разу, может быть, потому, что М. А. читал не узловые сцены, а может быть, просто поздно было, трудно было слушать. Но все — хорошо написано, тонко, без нажимов. Есть роли, не говоря уже о центральной, интереснейшей (Хмелев?). Просидел у них до трех часов ночи».
Пьеса поначалу называлась «Пастырь» (одна из партийных кличек молодого Сталина), потом автор переименовал ее в «Батум». В центре пьесы уже вырисовывался образ молодого, завоевавшего авторитет среди рабочих революционера, недавнего ученика духовной семинарии. С правом на обыкновенные человеческие чувства, на живой, достоверный быт и на юмор. Главное событие сюжета — разгром батумского восстания. В эпилоге — снова, как и в первой картине, — тайная большевистская явка в Батуме, начало подготовки к новому этапу борьбы. Как и всегда у Булгакова, драматизм событий и переживаний главных героев оказывался тем напряженней, чем естественнее вкрапливался в них юмор. Образы же царских сатрапов и самого царя были вылеплены ярко сатирически.