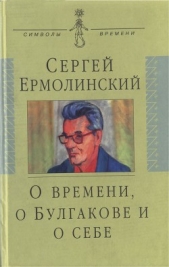Воспоминания о Михаиле Булгакове
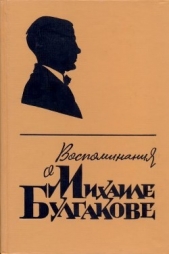
Воспоминания о Михаиле Булгакове читать книгу онлайн
О Михаиле Булгакове вспоминают К. Паустовский, В. Катаев, Э. Миндлин, С. Ермолинский, В. Виленкин, Р. Симонов, М. Яншин, М. Прудкин. Они рассказывают о начале литературного пути писателя, о его работе в театре, о жизни и творчестве последних лет. В сборник включены воспоминания Т. Н. Кисельгоф, Л. Белозерской, дневниковые записи вдовы — Е. С. Булгаковой, материалы из семейного архива.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Его творческая натура требовала все новых и новых проявлений. Иногда они бывали неожиданными. Елена Сергеевна показала мне как-то толстую клеенчатую тетрадь, в разных местах обрывочно заполненную его характерным крупным с резкими нажимами почерком. Это были наброски отдельных глав учебника по истории СССР, который он начал писать, прочтя в газете объявление о предстоящем конкурсе. Я был поражен свежестью и живостью языка, изяществом стиля, словом, литературным совершенством этих еще черновых исторических фрагментов. Вспомнилась известная фраза Пушкина из последнего письма — к А. И. Ишимовой: «Вот как надобно писать».
В апреле 1937 года Михаил Афанасьевич читал у себя дома главы из нового произведения: «Записки покойника» («Театральный роман»). Слушали это чтение Качалов, Литовцева, Шверубович, Сахновский, Вильямсы, Ермолинский, Шебалин, Мелик-Пашаевы, Марков и я. Теперь все знают этот роман. Некоторые видят в нем только сатиру и даже злую карикатуру на Художественный театр, ряд беспощадных шаржей на известных актеров, режиссеров и администрацию МХАТа. Такие читатели от души хохочут над главами о «предбаннике» дирекции, о приеме драматурга в особняке «самого Ивана Васильевича», о «галерее портретов», где Мольер висит рядом с усатым заведующим осветительными приборами театра, а тут же, неподалеку от него, — император Нерон, который ведь тоже «был певец и артист». Но иные главы их почему-то не смешат, и они готовы уже рассердиться на автора: почему далеко не все так уж смешно?
А правда, почему?
Почему одна из ярчайших юмористических глав, где описывается контора Филиппа Филипповича, главного администратора «Независимого театра», оканчивается такими тоскливыми фразами: «Филя! Прощайте! Меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы»? Почему и во многих других главах, постепенно усиливаясь к концу, так настойчиво звучит нота тоски, разочарования и мрачных предчувствий? А может быть, это не только сатирический «театральный роман», но произведение более глубокое, непривычно и странно сочетающее в себе сатиру с затаенным лиризмом, почти с исповедью? Для меня название «Театральный роман» звучит чем-то условным, нарочито нейтральным. «Записки покойника» куда выразительнее. Но уж если «роман», то для меня это скорее «роман с театром», роман в прямом, любовном смысле слова, роман, в котором трагическая подоснова то оборачивается злым юмором, то хлещет сатирой, то вдруг прорывается чуть не рыданием. Тут все проходит сквозь призму большого таланта: и безграничная, тайная, в чем-то, быть может, обманутая любовь, и обида, и злоба, и слезы.
Очевидно, старый Художественный театр был способен вызывать подобные чувства у близко соприкасавшегося с ним писателя. Когда-то и Б. Л. Пастернак не без горечи написал мне на одной из своих книг: «На память о моей мимолетной пятилетней связи с театром». Он имел в виду историю так и не состоявшейся в МХАТе постановки «Гамлета» в его переводе. А у Булгакова связь с театром была не пятилетней, а пожизненной, и не мимолетной, а всепоглощающей и, как оказалось, роковой.
Кстати, об этом чтении «Записок покойника» есть запись в дневнике Елены Сергеевны (22 апреля 1937 года), которую я не могу здесь не привести. Вслед за перечислением присутствовавших она пишет: «слушали у нас отрывки из «Записок покойника» и смеялись. Но у меня такое впечатление, что в некоторых местах эта вещь их ошеломляет».
Весной 1939 года Михаил Афанасьевич прочитал нам (А. М. Файко с женой, П. А. Маркову и мне), в четыре приема, целиком весь свой роман «Мастер и Маргарита», только что им законченный. (Потом он его еще дописывал, работа над ним продолжалась до его последних дней.) Первые три главы я уже слушал раньше, 27 сентября 1938 года: мы тогда пришли к нему с Марковым для разговора о новой пьесе, который вышел очень для нас тяжелым (я потом расскажу о нем), так что это чтение было как бы некоторой компенсацией за нашу неудачу, за явное наше огорчение. Может быть, и ему самому оно было в тот момент почему-то нужно. Еще раз те же главы Михаил Афанасьевич читал при мне 26 июня 1939 года у Калужских, главным образом для В. И. Качалова, который тоже был тогда у них в гостях, за рукописью посылали старшего сына Елены Сергеевны, Женю, к Булгаковым домой; помню, с каким восторгом он за ней помчался, несмотря на ливень, — он обожал Михаила Афанасьевича и как человека, и как писателя.
Но самое большое впечатление произвело на меня, конечно, чтение всего романа. Оно началось 26 апреля, а кончилось 14 мая. Растянулось оно, я думаю, потому, что Михаил Афанасьевич очень уставал от своей ежедневной работы в Большом театре, где он уже несколько лет был консультантом по репертуару, писал и редактировал различные либретто. Впрочем, никакой усталости в нем не чувствовалось, когда он, бывало, приглашал нас к себе послушать то, что им было только что написано.
Наоборот, в эти вечера он казался мне каким-то особенно подтянутым и собранным, и я не мог не замечать, что он волнуется. Это теперь так понятно. Ведь то небольшое общество, состоящее из нескольких литераторов, театральных художников, музыкантов, режиссеров и актеров, которое он собирал у себя, было для него в то время единственным кругом его читателей [76]. Однако воспринимать его произведения приходилось только на слух: он никогда не допускал, чтобы что-нибудь им написанное выносилось из его дома и ходило по рукам.
Но вернемся к его чтениям. Обычно они начинались довольно поздно, а расходились мы уже под утро, потому что всегда засиживались за ужином. Елена Сергеевна умела и любила принять, угостить, и Михаил Афанасьевич бывал за этим уютным круглым столом не только упоительным рассказчиком, но и заботливым, гостеприимным хозяином. Правда, у меня в голове почему-то иной раз шевелилось грешное подозрение: а не придется ли им завтра что-нибудь снести в комиссионный магазин после таких роскошеств? Ведь жили-то они только на его зарплату да на авторские за «Турбиных», которые шли только в МХАТе и не так уж часто. Все мы, бывало, любовались прекрасной старинной люстрой, висевшей у них в столовой. Но фразочку: «Ничего, я люстру продам!» — слыхивал я в этом доме не раз, не при гостях, разумеется.
Вообще что-то не совсем благополучное, как будто нависшее над этим домом мерещилось мне всегда, как бы ни бывало мне здесь захватывающе интересно и весело.
«Мастера и Маргариту» Михаил Афанасьевич читал у себя в кабинете, сидя не за письменным столом, а где-то сбоку, на тахте, кажется. Как он читал свою прозу? Так же, как и пьесы. Тоже необыкновенно просто, как будто без красок, ненавязчиво, никого из персонажей не играя, не «подавая» ни юмора, ни неожиданности переходов, какими бы невероятными они ни были. Но в чтении Булгакова все в этом романе — монументальное и лихорадочное, гротескное и лирическое — еще усугублялось напряженностью и остротой его видений. Снова огромную роль в его чтении играли резкие смены ритма, особенно когда в наиреальнейший современный быт по ходу повествования неожиданно и стремительно врывалась фантасмагория.
Эти смены ритма как будто мгновенно приближали к нам несущиеся в невероятном фантастическом вихре образы и пейзажи, лица и хари, подобия и преображения. Но помнится (или это только мерещится мне теперь?), что все повторы, связывающие «современность» с «древностью», с так называемыми «евангельскими» главами, у него звучали почти музыкально, почти кантиленно.
В этом чтении не было ничего случайного, хотя все как будто тут же при нас и рождалось, а не заранее было написано чернилами на бумаге. Иногда напряжение становилось чрезмерным, его трудно было выдержать. Помню, что, когда он кончил читать, мы долго молчали, чувствуя себя словно разбитыми. И далеко не сразу дошел до меня философский и нравственный смысл этого поразительного произведения.
А между тем наше восприятие его явно интересовало. Ведь недаром же, прочитав первые три главы, он вдруг задал нам вопрос: «А кто такой Воланд, как по-вашему?»