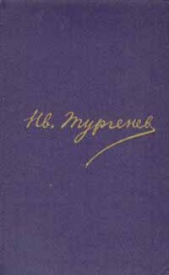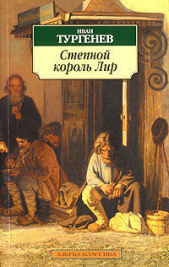Записки гадкого утёнка

Записки гадкого утёнка читать книгу онлайн
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.
Сердечная благодарность от редакции сайта levi.ru и от Григория Соломоновича Померанца за труды над электронной версией книги — Кате Кривошей и Сергею Левченко, нашим сотрудникам и друзьям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я рисковал, что она вовсе не приедет. Она очень любила Ледика. Но она приехала и стала оставаться подолгу. Утром я ждал, пока она проснется, с поцелуем подымал, обняв за плечи, приносил таз с водой, готовил завтрак… А на Трубной каждый раз собиралось все больше мусора, все больше невымытых тарелок…
Но главное было не в этом. Главное случилось, когда я преодолел самое опасное препятствие в любви (когда не остается никаких препятствий). И вдруг открылось созерцающее осязание, без оскомины и усталости, не исчезающее, а переходящее из ночи в день, незаметно всплывая при первом прикосновении. И неожиданно Ира осталась насовсем. Неожиданно для нее и для меня. И совершенно непреодолимо. А Ледик в 15 лет стал жить сам по себе, и мать к нему приезжала только тогда, когда он болел гриппом, заболевала сама, и в конце концов я ухаживал за обоими. Но это было редко.
Получилось, что я отбил Иру у сына.
Правда, Ледик каждый вечер приезжал в гости, и обычно мы вместе ужинали. Но Ира мучилась, что мальчик, совершенно еще не способный к самостоятельности, живет не с ней, что комната его превратилась в распивочную, и несколько раз мне говорила, что, наверное, раньше умрет от этого. Я слушал, ничего не возражал, чувствовал, как ей больно, но ничего не мог сделать. Ира это понимала и не решалась настоять на фантастических и нелепых проектах обмена двух трущоб на одну.
Ледик выровнялся, стал добрым и хорошим человеком (Ира не ошиблась, чувствуя в нем добрую душу). Но привычка к вину началась еще в школьные годы и оказалась роковой. И опять: хотел бы я сейчас, чтобы все тогда было иначе? При тех же условиях — семь метров на Зачатьевском и десять на Трубной? Да нет, ничего другого, чем то, что было, я не хочу. Единственное, что хотелось бы переменить, это Ирино роковое решение сделать операцию. Но как раз это я своим грехом не чувствую. Ира, по ее характеру, не могла отказаться от риска. А я, по моей любви и моему восхищению ею, мог только поддержать ее и идти на риск вместе с ней. Если бы операции не было, через несколько лет она умерла бы, как ее друг Жорж (с такой же каверной), и я бесконечно страдал бы, что удержал ее от спасительного ножа. Оттенок греха был, пожалуй, только в моем желании ребенка; может быть, это несколько подтолкнуло Иру; но гораздо больше подталкивал страх заразить мальчиков и наконец желание самой стать одним махом здоровой… Нет, удерживать ее я не мог. Разве проверить в разговоре с профессором, все ли свои недуги, способные помешать успеху операции, она ему открыла? Действовать за ее спиной? Не знаю, как бы я поступил теперь. Тогда я слишком берег свободу Иры…
Корчак писал, что ребенок имеет право на смерть (на риск смерти, неотъемлемый от свободы). И любимая имеет право на смерть. Мне страшно это писать, но это так. Решился бы я сейчас пренебречь ее правом? Не знаю. А с Ледиком знаю, что иначе не мог. Когда Ира умерла, на какое-то время моя конура стала его вторым домом, а его жизнь моей жизнью (я выполнил посмертное желание Иры). Но что прежде было, то было. За все приходится платить. Не только силами, здоровьем, но и совестью. Чувством греха и потребностью в очищении.
За жизнь с Зиной мне тоже приходится платить. Я чувствую себя виноватым постоянно. Перед людьми, от которых ее защищаю, и перед ней, что недостаточно защитил. Виноват, что втягивал ее в напряженные отношения с властью, что из-за меня рухнула ее карьера переводчицы и не печатались ее стихи и постоянно давил на нее страх за меня, который я не мог устранить (я не мог отказаться от своего права на смерть; хотя умирать мне будет бесконечно тяжелее, чем Ире). И виноват я, что меньше сосредоточен, чем нужно, и слишком редко бывает у меня состояние, которое лечит ее. И виноват, что не умею защитить ее от нее самой, от ее порывов жалости. И когда это удается — становлюсь виноватым перед другими.
Несколько лет назад стала терять разум моя тетка. Муж ее умер, сын уехал в Израиль. Родственники приезжали дежурить, ездил и я, но это не было радикальным решением. Надо было или взять одинокую к себе, или отдать в больницу. Зина рванулась: возьмем к себе.
Я ответил, что скорее выброшусь в окно. Не потому, что не могу жить рядом со слабоумной. Я бы, может быть, сумел, или, во всяком случае, попробовал бы. Не сможет Зина. Она просто погибнет без своей раковины, без своего внутреннего пространства. И я беру грех на себя. Тетю поместили к Ганнушкину; мне до сих пор больно вспоминать, как она там умирала. Но другой раз я сделал бы то же самое. Это не правило и даже не прецедент; неповторимый частный случай. Зина идет по жизни, как по проволоке, волоча за собой левую сторону тела. С дополнительным грузом она бы рухнула. И все же я не чувствую себя оправданным. Это было неизбежно — и дурно. Жертвовать одним ради другого всегда дурно. Единственно плодотворное, что есть в таком грехе, — это сознание греха.
Бесконечно верна поговорка: не согрешишь — не покаешься; не покаешься — не спасешься. Не в том смысле, чтобы нарочно грешить, — это выверт. Но приходится брать на себя тяжесть действия, тяжесть выбора, между «надо» и «надо», грехом и грехом. И чувствовать свою запутанность в грехе. Чувствовать себя вечным мытарем (который, по-моему, просто был человеком действия и потому нарушал фарисейские правила).
Рильке пишет о Сезанне: «Возможно, он был на похоронах своего отца; мать свою он тоже любил, но когда хоронили ее, его не было. Он находился sur le motif (на этюдах), как он говорил. В то время работа была уже так важна для него, что не признавала никаких исключений, даже тех, какие наверняка требовали его благочестие и простодушие». {31}
Я не собираюсь казнить Сезанна (как героя Камю, которому черствость к матери посчитали отягчающим вину обстоятельством). Я знаю накал творческой страсти. Но никакая страсть, самая благородная, не снимает греха. Грех был. И был долг осознать грех. Хотя если бы Сезанн поступил иначе и оборвал свой творческий порыв, это было бы чистым добром в глазах окружающих, а перед Богом все равно грех. Симеон Новый Богослов не отпустил монаха проститься с матерью. А. П. Каждан считал это изуверством. А я думаю — не то же ли это самое, что у Сезанна? Рильке поступком Сезанна восхищался.
За все приходится платить. Ты выкладываешься всем сердцем на бумагу, чтобы сказать правду — и оскорбил хорошего человека. Екатерина Александровна К. плакала, прочитав то, что я написал (в «Созвездиях глубин») о «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова. Она дала эту книгу с простодушным желанием обратить меня, а я все прочел не так, как она, прочел по-своему. Но убедить тех, кому хотелось верить Федорову, оказалось невозможным. И в следующем варианте своей работы — «Заметки о внутреннем строе романа Достоевского» — я сократил критику Федорова до минимума, чтобы не обижать федоровцев (их и так травили).
Моим великим долгом было написать об Ире так, чтобы она осталась в человеческой памяти. Когда «В сторону Иры» было напечатано, мелькнула даже мысль: «теперь можно умереть» (такие восклицания нельзя понимать буквально; они говорят о силе и характере чувства). Я получил несколько писем со словами горячей благодарности. Но этот же текст кого-то оскорбил. Несубъективных и неодносторонних точек зрения нет, и каждый вправе сказать то, что думает; целостность истины складывается из множества осколков. В иных случаях эти острые осколки, попадая в чужую плоть, вызывают жгучую боль, и когда Анна Шмаина писала мне о страданиях, с которыми сочиняла послание ко мне, я. вполне ее понимал. С таким же страданием (еще более долгим и, может быть, еще более глубоким) я писал Солженицыну в 67-м и потом полемизировал с ним в 74–76-м годах. Я думаю, что такие страдания плодотворны. Так возникают многие тексты: от колючки, попавшей в душу, от боли, которую ты сам испытал или причинил другим. Невозможно мыслить, писать — и никого не задеть. Не только в разговоре о живых людях. С живыми идеями — то же самое.