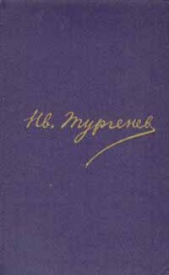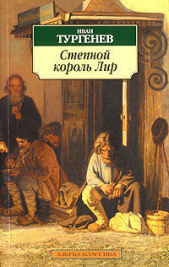Записки гадкого утёнка

Записки гадкого утёнка читать книгу онлайн
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.
Сердечная благодарность от редакции сайта levi.ru и от Григория Соломоновича Померанца за труды над электронной версией книги — Кате Кривошей и Сергею Левченко, нашим сотрудникам и друзьям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава Девятая
Неразрешимое
Как-то летом я увидел Вовку. Он стоял на углу Воздвиженки и Моховой возле вестибюля метро «Библиотека Ленина» и ждал кого-то. Мы встретились глазами; он с отвращением отвернулся. И вдруг я увидел, как выгляжу в его глазах. Он никогда не изменял нашей дружбе. Изменил я.
В самое трудное для меня время, в конце сороковых, Вовка мне помогал, чем мог. Ему пришлось из-за этого объясняться. Сперва с девушкой, которую к нему приставили, собираясь выдвинуть на более высокий пост. Он разгадал игру и использовал секретную сотрудницу вдвойне: как любовницу и как источник благожелательной информации. Потом официально вызвали и стали расспрашивать, какие вредные идеи я высказывал. Вовка и об этом мне рассказал (хотя дал подписку не разглашать; честный Л. не решился обмануть государство). Почему же я пошел на разрыв?
Кажется (сейчас трудно вспомнить), я вышел из лагеря с сознанием интеллигентского закона, вроде воровского. А Вовка ссучился, сделался главным редактором скверной газеты. Разграничение между ворами и суками стало для меня важнее всего личного. Что-то вроде партийного нежелания идти на совет нечестивых. И я не позвонил и не зашел (хотя других старых знакомых разыскивал).
Потом мы все-таки встретились, уже после смерти Иры. Не помню как, не помню, где это случилось, но Вовка был очень рад, так рад, что я откликнулся. По старой памяти, он тут же зашел ко мне на Зачатьевский со своею очередной любовницей. Посидели, пошутили. Через пару дней спросил, не смог бы получить ключ. Раньше я охотно оказывал ему эту услугу, но сейчас мои 7 кв. м были полны памятью Иры, и я объяснил, что мне не хочется смешивать с этим мысль о другой женщине. Вовка удивился, но не обиделся. Двойные мысли были его привычкой и второй натурой, во всякой ситуации он ловил какую-то выгоду. Ну без ключа, так без ключа. Встреча сама по себе была для него радостью. Как будто молодость вернулась, через десяток лет.
На стене комнаты висел мой деформированный портрет с неестественно большими глазами. Вовка с удивлением рассмотрел его и вспомнил, что когда-то был модернистом, а я классиком. Теперь роли переменились. Перемена — если на то пошло — началась давно. Студентом я каждую неделю ходил, как в церковь, в Музей новой западной живописи (там теперь академия художеств, на Пречистенке). Завлекла тишина. Никаких экскурсий, стаек школьников, любопытных провинциалов. Стоишь в зале один, иногда еще какой-нибудь молчаливый посетитель. Только созерцай. И я вглядывался в то, что понимал: в Ренуара, в Моне и постепенно дошел до Пикассо и Руо. Ренуар, Моне, Сислей, Марке, Ван Гог, Сезанн, Пикассо — все это было моим окном в красоту из серой Москвы 30-х годов. Не знаю, как бы я жил в провинции без новой западной живописи. Старой в Москве было мало, а передвижники быстро набили оскомину. Хотя изредка я и на них поглядывал. Вся моя юность была повернута к живописи. Я и природу научился чувствовать через живопись. Но в конце 50-х модернизм еще стал знаком либеральности, левизны. Так это и к Евтушенко попало, в один из рифмованных фельетонов: «Не любил Герасимова и любил Пикассо». Я стал модернистом партийно, идейно, по-мальчишески, покорясь логике «за — против», почти что в духе частушки, сочиненной тогдашними студентами:
При всем при этом я сейчас же убрал свой портрет (нарисованный на обороте обоев), когда он не понравился Зине. И с Зининой установкой на классиков я обращался очень осторожно. Зина любила классику за космические ритмы. Поэзии несуществующего направления (о котором я позже писал) нужна была традиция гимна, и сквозь XIX век Зина (как и Даниил Андреев) шла к XIV. Я это принял и старался только показать другие возможности, раскрытые Мандельштамом и Цветаевой, Сезанном и Ван Гогом; в конце концов Зина их всех полюбила; поздняя Цветаева стала даже ей особенно, лично близка. А меня никогда не переставала тянуть к себе настоящая, высокая классика, и когда в Москве была Дрезденка, я пять раз выстаивал с рассвета, чтобы побыть с Сикстинской Рафаэля и с Венерой Джоржоне. Я вовсе не хотел сбросить это с корабля современности. То, что меня отталкивало, была особая разновидность любви к классикам, любви без риска, без личного решения, любовь к разрешенному и рекомендованному, попутно с бранью по адресу нового, рискованного и официально запрещенного.
Реплика Вовки около портрета была мягкой и трогательной; в ней плеснули воспоминания школьных лет и не было ничего официального, связанного с выгодой. Но несколько дней спустя он пригласил меня к себе на квартиру, где по-прежнему жил со свой женой (он менял любовниц, а с женой не расходился). Разговор зашел о газете, и Вовка с апломбом стал говорить, что бранит мальчишек, а великим художникам воздает должное. Мне было бы легче, если бы он оставался циником. Прежний Вовка со мной сбрасывал маску и говорил о том, что он писал и делал, с улыбкой Мефистофеля…
Как-то в богато отделанном кабинете редактора он сказал мне: я сегодня подписал совершенно черносотенную передовую. На другой день я развернул официоз и убедился, что все так и есть. С этим человеком я водиться мог. Мы как бы жили в одном плутовском романе, только он избрал себе роль плута, а я — роль дурака. Но друг с другом мы говорили на одном языке и называли кошку кошкой, а мерзость мерзостью…
На следствии, где перемывались мои косточки со школьных лет, я тщательно обходил фамилию Вовки и наши общие проделки принимал на себя: не хотел мешать его карьере. Пусть играет в свою игру. Но игра плохо кончилась. Маска приросла к лицу. Недаром я избегал встречи… И теперь очень сдержанно, но сухо я возразил, что Баху или Рембрандту все равно, что о них пишут в Москве, а живых он калечит. Люся почувствовала недоброе и спросила, может быть, в самом деле газета ведется нехорошо? Вовка, с обычной своей уверенностью, отмахивался. Я промолчал, попрощался и ушел. Говорить было не о чем, он изменил неписанному правилу нашей юности: не лгать самому себе. На этом наша дружба кончилась. Несколько лет я не сомневался, что поступил совершенно правильно. И вдруг увидел все с другой стороны.
Я должен был попытаться. Я должен был попробовать, подумать, как сбить его с позиции, к которой он привык, вернуть его по крайней мере к гамбургскому счету, к улыбке авгура. Может быть, сходить с ним несколько раз на премьеру, в мастерские левых художников и скульпторов. Скорее всего, я ничего бы не добился. Новые привычки окажутся сильнее моего красноречия. Вовке слишком хотелось выигрывать, всегда выигрывать, и совершенно естественно, что он стал функционером игры, духовно слился с правилами игры на выигрыш. Но совершенной безнадежности не было.