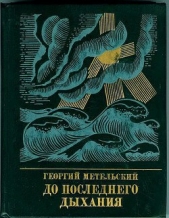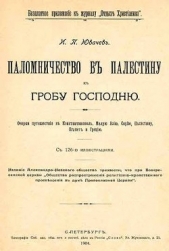Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском

Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском читать книгу онлайн
Станислав Рассадин — литературовед и критик, автор ряда книг, в частности биографической повести «Фонвизин», работ, связанных с историей России и русской литературы: «Драматург Пушкин», «Цена гармонии», «Круг зрения», «Спутники» и других.
Новая его повесть посвящена Ивану Ивановичу Горбачевскому — одному из самых радикальных деятелей декабристского Общества соединенных славян, вобравшего в себя беднейшую и наиболее решительную по взглядам частьреволюционно настроенного русского офицерства. За нескончаемые годы сибирской ссылки он стал как бы совестью декабризма, воплощениемего памяти. После окончания каторжного срока и даже после высочайшей амнистии он остался жить в Петровском Заводе — место своей каторги. Отчего? Это одна из загадок его героически-сложной натуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Исследования о тайных обществах, заговорах, восстаниях раскрыли все состояние государства повсеместно, во всех видах, и гораздо подробнее, нежели как это было возможно дознать государю и министрам его — иными средствами. Правительство не воспользовалось этими указаниями, а только еще сильнее стало питать подозрение к тайным обществам и ненависть к либерализму до такой степени, что шалости школьного юношества, непринужденная беседа молодежи беспрестанно страшили его видениями заговоров и отвлекали внимание от дел важнейших…»
Все-таки — не утерплю, высунусь со своим словечком.
Видения, принимаемые за материальность, — и, конечно, караемые тоже весьма осязаемо — могут стать действительностью и становятся ею. Это закон не физики, но истории и политики. Преследование за слово оборачивается ответным делом, и когда теперь даже ненавидящие правительство с осуждением и печалью говорят о напрасности революционного желябовского террора, я, соглашаясь с этим (да, да!), спрашиваю: а кто его породил? Кто окончательно врыл столбы того холодного здания, в котором недовольным нечего и думать, чтобы договориться с теми, кто всем доволен?
Когда судят Шелябова и других, а во время суда философ Соловьев на публичной лекции призывает «простить безоружных», когда писатель Лев Толстой вразумляет царя, что революционерам надобно противопоставить тот идеал, из которого они же исходят, не понимая его и кощунствуя над ним, то есть идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло, — как, скажите, можно надеяться, что эти слова достучатся до сердца, к которому обращены, после свершившегося цареубийства?
Хорошо, кабы достучались, да…
В том-то и дело, что Александру III трудно простить убивших его отца, — если угодно, по-человечески трудно; а если бы да кабы когда-то простил своих врагов Николай, их, покушавшихся только словом? Если бы не впился, точно клещ в ухо, в это их намерение, прежде всего в него, чуть ли не в него в одно? Если бы, задарив на допросах изъявлениями понимания и посулами, не отказался от мысли хоть в чем-то признать обоснованность их недовольства?
Что — тогда?
Но я позабыл о Розене; прошу прощения, почтенный Андрей Евгеньевич:
«Цензура была строжайшая; иностранные книги по точным наукам были дозволены; но сочинения по части политики, философии, религии, истории, политической экономии, правоведения допускаемы были с величайшею разборчивостью. В университетах закрыли кафедры философии и вместо нее преподавали психологию и логику. Иностранцам запрещено было преподавать науки в России; русским юношам запрещено было учиться в иностранных университетах; своих преподавателей русских было очень мало; где же было образоваться и научиться? Разве в кадетских корпусах!
Зато войска имели с лишком миллион, да какая выправка солдат! какая выездка коней! Учения и движения приводили зрителя в удивление, по точности и быстроте, по знанию воинского устава. Чрез несколько лет миллионное войско было увеличено сотнями тысяч бессрочно отпускных солдат и кантонистов. Такое войско действительно наводило страх на весь мир. Тридцатилетие началось войною и кончилось войною».
Проигранной самым постыдным образом.
Когда Николай скончался, темные слухи, что он — будто бы — ушел по своей воле, не стерпев сознания своего поражения и даже чуть было не вины перед Россией, которую никуда не вел и привел в никуда, эти слухи добрели и до Петровского Завода.
Здешний мой приятель Харлампий Алексеев, хорошо знавший Горбачевского, говорит, что Иван Иванович озадачился и в первые часы был словно бы тронут.
— Странная смерть… Очень странная… Несмотря ни на что…
Такие осколки застряли в памяти Алексеева, и их достаточно, чтобы понять озадаченность и над нею задуматься.
Да подобное вроде бы уже и бывало?
«Простим ему неправое гоненье» — это Пушкин в минуту душевной щедрости отпускает обиду — кому? Самому обидчику своему, гонителю царю Александру. А тут поговаривают, что, мол, смерть есть как бы покаяние и искупление, — так не простить ли и младшего братца?
Горбачевский — все-таки не прощает. «Несмотря ни на что» — эта оговорка дорого стоит, тяжело тянет, как камень на шее. Это — не позабытое, не отпущенное тому, кого они, декабристы, между собой и называли с ядовитостью — Незабвенный.
Тут со стороны Ивана Ивановича, думаю я, другое: желание исконно добросовестного человека быть и к главнейшему из врагов справедливым.
Холопы не взвешивают на весах добро и зло, вину и васлугу; они обожают и проклинают вкупе, чохом, «без тонкостев».
Понимаю Горбачевского, уважаю его намерение, — асогласиться все-таки не могу.
Если даже и в самом деле — чему не верю — Николай решился покончить с собой, то это бегство с поста. Политик не смеет отчаиваться, государь, как полководец, не имеет права дезертировать.
Солдат-дезертир достоин презрения. Царь-дезертир — миллионнократно.
Заговорил я Вас?
Но — потерпите. Еще недолго.
Итак, вот он, Горбачевский: непостижимый сидень, странный лежачий камень, упрямством своим удивлявший, а то и раздражавший людей, которые его любили и полагали, что понимают.
Когда, отбыв каторгу, он сказал, что остается здесь, это еще всем казалось — и им самим объяснялось — сравнительно просто. Звавшим его к себе на дружеское сожительство он отвечал чуть ли не с превосходством человека, который, шалишь, свою выгоду понимает. Если тянули в Читу, возражал, что Петровский Завод по сравнению с сей дырой столица. Если приглашали в деревню, хлебопашествовать, он брал еще выше тоном и восклицал, что это было бы не меньшей глупостью, чем променять Санкт-Петербург на Акатуй. А братьям Бестужевым, любившим его, сам пенял, что они не иначе как сдуру избрали для жительства место бесплодное и безлюдное, пески Ливийские, — так аттестовал он Селенгинск, где зима бесснежна, весна засушлива, лето изнурительно, где ветер наносит песчаные сугробы, — и вправду ни дать ни взять африканская пустыня.
Но годы шли, разумные доводы вызывали все больше сомнений в их практической объяснимости, и непонятность росла.
Она стала всеочевидна, когда… но не хочу миновать документа, копию которого отыскал во вверенном мне заводском архиве.
«Забайкальское
Областное
Управление
—
25 октября 1856 г.
№ 430
—
Чита
Господину Управляющему Петровским Горным Округом.
Всемилостивейшим Его Императорского Величества Манифестом, изданным в 26 день августа н. г. по случаю коронования Их Величеств и особо Высочайшим Указом, данным в этот же день Правительствующему Сенату, дозволено находящемуся в Петровском Заводе Государственному преступнику Ив. Горбачевскому возвратиться на родину с воспрещением, впрочем, въезда в С.-Петербург и Москву, при чем возвращено ему и дворянское достоинство…»
Вот оно: «и братья меч вам отдадут». Только не братья, стало быть, и свобода принимала его не так, как в надеждах мерещилось Пушкину.
«…Уведомляя об этом, честь имею покорнейше просить объявить об этом Господину Горбачевскому и истребовать от него лист гербовой бумаги 90 копеек серебряного достоинства…»
Опять! Дался же им этот рубль без гривенника!.. Впрочем, виноват: возглас мой будет Вам непонятен, да и бог с ним.
«…на написание ему свидетельства о возвращении ему дворянского достоинства.
Исправляющий должность Военного Коменданта
Полковник Корсаков».
Добавлю, что через несколько лет племянники-санкт-петербуржцы добились и большего — выхлопотали у царя разрешение дядюшке жить в столице. У них уже взяли подписку о поручительстве, за новоиспеченным — нет, так и недопеченным — жителем Петербурга уже загодя был учрежден надзор, словом, дело ставилось правительством на солидную полицейскую ногу, и… И ничего.