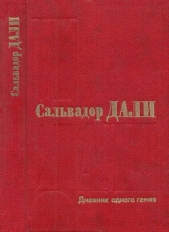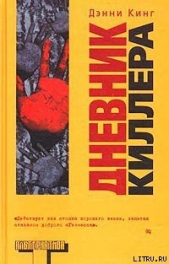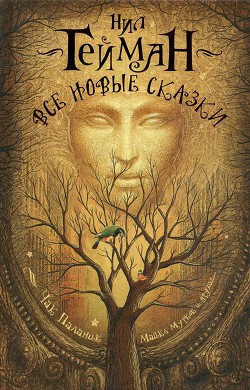Дневник (1901-1929)

Дневник (1901-1929) читать книгу онлайн
Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя - это - в конечном счете - все-таки дневник для других
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хоть бы скорее! (т. е. скорее бы умер!)
23 марта. Принял опий, чтобы заснуть. Проснулся с тяжелой головой. Читал «Wisdom of Father Brown», by Chesterton. Wisdom rather stupid and Chest erton seems to me the most commonplace genius I ever read of [ 46 ].
Мура указала мне на вентилятор. Я запел:
Вентилятор, вентилятор,
Вентилятор, вентиля.
Она сразу уловила tune [ 47 ] и запела:
Паппа папа папа папа
Паппапапапапапа.
Очень чувствительная к ритму девица.
24 марта. Нет ни сантима. Читаю Chesterton'a «Innocence of Father Brown» — the most stupid thing I ever read [ 48 ].
25 марта. Тихонов недавно в заседании вместо Taedium vitae [ 49 ] несколько раз сказал Те Deum vitae [ 50 ]. Ничего. Мы затеваем втроем журнал «Запад» — я, он и Замятин. Вчера было первое заседание13. Сейчас я отправлюсь к Серг. Фед. Ольденбургу — за книгами.
26 марта. Очень неудачный день. С утра я пошел по делам: к Беленсону по поводу книги Репина,— не застал. В типографию на Моховую по поводу своей книги об Уайльде,— набрана, но так как издатель Наппельбаум не платит денег, то книга отложена. Между тем цены растут, нужно торопиться, человек погубит мою книгу. Я пошел к нему, к Наппельбауму. Не застал. Оставил ему грозную записку. Оттуда к Алянскому — не застал. Сидит его служащая, рядом с буржуйкой, кругом кипы книг, и ни одного покупателя. Даже Блока 1-й том не идет. Алянский назначил за томик Блока цену 400 000 р., когда еще не получил счета из типографии. Получив этот счет, он увидел, что 400 000 — это явный убыток, и принужден был повысить цену до 500 000. А за 500 000 никто не покупает. Мой «Слоненок» лежит камнем14. Ни один книгопродавец не мог продать и пяти экземпляров. На книжки о Некрасове и смотреть не хотят15. Наш разговор происходил на Невском — в доме № 57, в конторе издательства «Алконост» и «Эпоха». (В окно я видел желтый дом № 86, и вспомнил вдруг, что в оны годы там был Музей восковых фигур, где находилась и Клеопатра, описанная Блоком в известных стихах:
Она лежит в гробу стеклянном16.
Помню, я встретился там с Александром Александровичем, и мы любовались змеею, которая с постоянством часового механизма жалила— систематично и аккуратно — восковую грудь царицы.)
Из «Алконоста» я пошел в издательство «Полярная Звезда», отнес корректуру Некрасова и мечтал, не получу ли денег. Но Лившица не застал. <...> Напрягая все силы, чтобы не испытывать отчаяния, голодный — иду на Васильевский Остров к Ольденбургу, в Академию Наук. У Ольденбурга мне нужно получить Рабиндраната Тагора. Ольденбург болен. Он живет на первом этаже во дворе, в Академии Наук. Куча детей, внучат и еще каких-то, женщины, которые гладят, толкут, пекут, горшок в передней, и на диване свеженький, как воробей, Ольденбург. С наигранной энергией он говорит обо всем, но увы, Рабиндраната у него нет. Он сказал, что много книг есть у приехавшей только что из-за границы профессорши Добиаш-Рождественской, которая живет в университете. Я в университет. Сперва — в канцелярию.— Где живет Рождественская? — Не знаю! — отвечает красноносая старуха. Наконец я добрался. Позвонил. Долго не открывают. Потом открыла какая-то низкорослая, полуседая:
— Я не открывала, так как думала, что голодающие!
Добиаш-Рождественской нет! Она, действительно, вернулась из Парижа, но книг еще не получила: они в багаже!
Голодный, утомленный иду назад. Сегодня сдуру я назначил свидание Анне Ахматовой — ровно в 4 часа. Покупаю по дороге (на последние деньги!) булку, иду на Фонтанку. Ахматова ждала меня. На кухне все убрано, на плите сидит старуха, кухарка Ольги Афанасьевны, штопает для Ахматовой черный чулок белыми нитками.
— Бабушка, затопите печку! — распорядилась Ахматова, и мы вошли в ее узкую комнату, три четверти которой занимает двуспальная кровать, сплошь закрытая большим одеялом. Холод ужасный. Мы садимся у окна, и она жестом хозяйки, занимающей великосветского гостя, подает мне журнал «Новая Россия», только что вышедший под редакцией Адриянова, Тана, Муйжеля и других большевиствующих. <...> я показал ей смешное место в статье Вишняка, <...> но тут заметил, что ее ничуть не интересует мое мнение о направлении этого журнала, что на уме у нее что-то другое. Действительно, выждав, когда я кончу свои либеральные речи, она спросила:
— А рецензии вы читали. Рецензию обо мне. Как ругают!
Я взял книгу и в конце увидел очень почтительную, но не восторженную статью Голлербаха17. Бедная Анна Андреевна. Если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди! — Этот Голлербах,— говорила она,— присылал мне стихи, очень хвалебные. Но вот в книжке о Царском Селе — черт знает что он написал обо мне18. Смотрите! — Оказывается, в книжке об Анне Ахматовой Голлербах осмелился указать, что девичья фамилия Ахматовой — Горенко!! — И как он смел! Кто ему позволил! Я уже просила Лернера передать ему, что это черт знает что!
Чувствовалось, что здесь главный пафос ее жизни, что этим, в сущности, она живет больше всего.
— Дурак такой! — говорила она о Голлербахе.— У его отца была булочная, и я гимназисткой покупала в их булочной булки,— отсюда не следует, что он может называть меня... Горенко.
Чтобы проверить свое ощущение, я сказал поэтессе, что у меня в Студии раскол между студистами: одни за Ахматову, другие против.
— И знаете, среди противников есть тонкие и умные люди. Например, одна моя слушательница с неподвижным лицом, без жестов, вдруг, в минувший четверг, прочитала о вас доклад — сокрушительный,— где доказывала, что вы усвоили себе эстетику «Старых Годов», курбатовского «Петербурга», что ваша Флоренция, ваша Венеция — мода, что все ваши позы кажутся ей просто позами.
Это так взволновало Ахматову, что она почувствовала потребность аффектировать равнодушие, стала смотреть в зеркало, поправлять челку, и великосветски сказала:
— Очень, очень интересно! Принесите мне, пожалуйста, почитать этот реферат.
Мне стало страшно жаль эту трудноживущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе — и еле живет другим. Показала мне тетрадь своих новых стихов, квадратную, большую: — Вот, хватило бы на новую книжку, но критики опять скажут: «Ахматова повторяется». Нет, я лучше издам ее в Париже, пусть мне оттуда чего-нибудь пришлют!
За границей, по ее словам, критика гораздо добрее.— В Берлине вышла «Новая Русская Книга»19 — там обо мне — да и обо всех — самые горячие отзывы. Я — гений, Ремизов — гений, Андрей Белый — гений.
— Ну, что, у вас теперь много денег? — спросил я.— Да, да, много. За «Белую стаю» я получила сразу 150 000 000, могла сшить платье себе, Левушке послала — вот хочу послать маме, в Крым. У меня большое горе: нас было четыре сестры, и вот третья умирает от чахотки20. Мама так и пишет: «умирает». В больнице. Я знаю, что они очень нуждаются, и никак не могу послать. Мама пишет: «по почте не посылай!»
Заговорили о голодающих. Я предложил ей свою идею: детская книга для Европы и Америки. Она горячо согласилась.
В комнате стало жарко. Она сварила мне в кастрюле кофе, сама быстро поставила столик, чудесно справилась с вьюшками печки, и тут только я заметил, как идет ей ее новое платье.
— Это материя из Дома Ученых!
Я достал из кармана булку и стал уплетать. Это был мой обед.
Она жаловалась на Анну Николаевну (вдову Гумилева): — Вообразите, у Наппельбаумов Волфсон просит у нее стихов, а она дает ему подлинный автограф Гумилева. Даже не потрудилась переписать.— Что вы делаете?! — крикнула я и заставила Иду Наппельбаум переписать. Вот какая она некультурная.