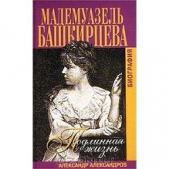Дневник Марии Башкирцевой

Дневник Марии Башкирцевой читать книгу онлайн
Мария Башкирцева (1860–1884) — художница и писательница. Ее картины выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, в некоторых крупных украинских музеях, а также в музеях Парижа, Ниццы и Амстердама. «Дневник», который вела Мария Башкирцева на французском языке, впервые увидел свет через три года после ее смерти, в 1887 г., сначала в Париже, а затем на родине; вскоре он был переведен почти на все европейские языки и везде встречен с большим интересом и сочувствием.
Этот уникальный по драматизму человеческий документ раскрывает сложную душу гениально одаренного юного существа, обреченного на раннюю гибель. Несмотря на неполные 24 года жизни, Башкирцева оставила после себя сотни рисунков, картин, акварелей, скульптур.
Издание 1900 года, приведено к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Придя к себе, я сняла один за другим все образа оправленные в золото и серебро. Я поставлю их в мою образную, там.
Воскресенье, 29 (17) октября. Я сняла также картины, как и образа. Говорят есть одна картина Веронезе, одна Дольчи, я это узнаю в Ницце. Принявшись снимать картины, я захотела увезти с собою все. Дядя Александр казался недовольным, но мне трудно было сделать только первый шаг, а потом я продолжала спокойно.
Тетя Надя попечительница соседних школ. Она с удивительной энергией взялась за дело просвещения здешних крестьян.
Сегодня утром я вместе с тетей Надей побывала в ее школе, а потом разбирала старые платья и раздавала их направо и налево.
Явилась целая толпа женщин, надо было дать что-нибудь каждой.
Вероятно, я больше никогда не увижу Черняковки. Я долго бродила из комнаты в комнату, и это мне было очень приятно. Обыкновенно смеются над людьми, для которых мебель, картины составляют приятные воспоминания, так что они приветствуют их и видят друзей в этих кусках дерева и материи, которые, послужив вам, приобретают частицу вашей жизни и кажутся вам частью вашего существования. Смейтесь! Самые нежные чувства всего легче обратить в смешное; а где царствует насмешка, там нет места нежным чувствам.
Среда, 1 ноября. Когда Поль вышел, я осталась наедине с этим честным и чудесным существом, которого зовут Пашей.
— Так я вам все еще нравлюсь?
— Ах, Муся, как мне говорить об этом с вами!
— Очень просто. К чему молчать? Почему не быть прямым и откровенным? Я не буду смеяться; когда я смеюсь — это нервы и ничего больше. Так я вам больше не нравлюсь?
— Почему?
— Потому, потому что… я сама не знаю.
— В этом нельзя отдать себе отчета.
— Если я вам не нравлюсь, вы можете это сказать — вы достаточно для того откровенны, а я достаточно равнодушна. Скажите, что именно, — нос? или глаза?
— Видно, что вы никогда не любили.
— Почему?
— Потому что с той минуты, когда начинаешь разбирать черты, когда нос находишь лучше глаз, а глаза лучше рта… это значит, что уже больше не любишь.
— Это совершенно верно. Кто вам это сказал?
— Никто.
— Улисс?
— Нет, сказал он, — я не знаю, что в вас мне нравится… скажу вам откровенно: ваш вид, ваши манеры, особенно ваш характер.
— Что же, у меня хороший характер?
— Да, если бы вы только не играли комедии, чего невозможно делать всегда.
— И это правда… А мое лицо?
— Есть красота, которую называют классической.
— Да, мы это знаем. Далее?
— Далее, есть женщины, которые проходят мимо нас, которых называют красивыми и о которых потом не думаешь… Но есть лица и красивые, и очаровательные… которые оставляют впечатление надолго, возбуждают чувство приятное… прелестное.
— Отлично… а потом?
— Как вы меня допрашиваете?
Я пользуюсь случаем, чтобы узнать немножко, что обо мне думают; я не скоро встречу другого, кого мне можно будет так допрашивать, не компрометируя себя.
— И как явилось в вас это чувство — вдруг или мало-помалу?
— Мало-помалу.
— Гм… Гм…
— Это лучше, это прочнее. Что полюбишь в один день, то в один день и разлюбишь.
Разговор длился еще долго, и я почувствовала уважение к этому человеку, для которого любовь — религия и который никогда не замарал ее ни словом, ни взглядом.
— Вы любите говорить о любви? — спросила я вдруг.
— Нет, равнодушно говорить о ней — святотатство.
— Но это забавно.
— Забавно! — воскликнул он.
— Ах, Паша, жизнь — ничтожность!.. А я была когда-нибудь влюблена?
— Никогда! — отвечал он.
— Из чего вы это заключаете?
— Из вашего характера; вы можете любить только по капризу… Сегодня человека, завтра платье, послезавтра кошку.
— Я в восторге, когда обо мне так думают. А вы, мой милый брат, были когда-нибудь влюблены?
— Я вам говорил. Я вам говорил, и вы знаете.
— Нет, нет, я говорю не о том, — сказала я с живостью, — но прежде?
— Никогда.
— Это странно. Иногда мне кажется, что я ошибаюсь, и что приняла вас за нечто большее чем вы есть.
Мы говорили о безразличных вещах, и я ушла к себе. Вот человек… Нет, не будем думать, что он прекрасный — разочарование было бы слишком неприятно, Он признался мне, что будет солдатом.
— Для того, чтобы прославиться, говорю откровенно.
И эта фраза, сказанная из глубины сердца полузастенчиво, полусмело и правдивая, как сама правда, доставила мне огромное удовольствие. Я, может быть, преувеличиваю свои заслуги, но мне кажется, что прежде честолюбие было ему незнакомо. Я помню, как его поразили мои первые слова о честолюбии, и когда я говорила однажды о честолюбии во время рисования, он вдруг встал и начал шагать по комнате, бормоча:
— Нужно что-нибудь сделать, нужно что-нибудь сделать.
Четверг, 2 ноября. Отец придирается ко мне из-за всего. Сто раз мне хочется отправить все к черту…
Только благодаря «историям», отца можно было увезти в Полтаву сегодня вечером. В дворянском собрании концерт. Мне хотелось ехать, чтобы показать себя, но явились препятствия без конца.
Недостаточно еще того, что он не доставил мне ни малейшего удовольствия, удалил людей, которые могли бы быть мне равными, не обращал внимания на все мои намеки и даже просьбы, касающиеся ничтожного любительского спектакля. Этого недостаточно! После трех месяцев ласки, внимания, интереса, которые я доставляла, любезности, я встречаю… сильное сопротивление тому, чтобы я ехала в этот противный концерт. И это еще не все: вышла история с моим туалетом. Требовали, чтобы я надела шерстяное платье, костюм для гулянья. Как это все мелко и недостойно разумных существ!
Да и мне вовсе не нужен был отец. Со мной были тетя Надя и дядя Александр, Поль и Паша, которого я увезла из каприза и к моему же великому неудовольствию.
Отец нашел меня слишком красивой, и это вызвало новую историю; он боялся, что я буду слишком отличаться от полтавских дам, и умолял меня на этот раз одеться иначе — он, который просил меня одеться таким образом в Харькове. Последствием этого были — пара митенок, разорванных в клочки, злобные глаза, невыносимое настроение духа и… никакой перемены в туалете.
Мы приехали в середине концерта; я вошла под руку с отцом с видом женщины, которая уверена, что ею будут любоваться. Тетя Надя, Поль и Паша следовали за мною. Я прошла мимо m-me Абаза, не поклонившись ей, и мы сели рядом с нею в первом ряду. Я была у m-lle Дитрих, которая, сделавшись m-me Абаза, не отдала мне визита. Я держалась самоуверенно и не поклонилась ей, несмотря на все ее взгляды. Нас тотчас-же все окружили. Все клубные дураки (клуб находится в том-же доме) пришли в залу, «чтобы посмотреть».
Концерт скоро кончился, и мы уехали в сопровождении здешних кавалеров.
— Ты поклонилась m-me Абаза? — спросил меня несколько раз отец.
— Нет.
И я произнесла нравоучение, советуя поменьше презирать других и прежде обращать внимание на себя. Я задела его за живое; он вернулся в клуб и пришел сказать мне, что Абаза ссылается на всех слуг гостиницы и уверяет, что на другой-же день отдал мне визит с племянницей.
Впрочем, папа сияет; его осыпали комплиментами на мой счет.
Суббота, 4 ноября (23 октября). Я должна была предвидеть, что отец будет пользоваться всяким удобным случаем, чтобы отомстить жене. Я говорила это себе неопределенно, но я верила в доброту Бога. Maman не виновата, с таким человеком жить нельзя. Он вдруг обнаружился, и теперь я могу судить.
С утра идет снег, земля вся белая, деревья покрыты инеем, что вечером образует прелестные, неопределенные оттенки. Хотелось бы погрузиться в этот сероватый туман леса; он кажется другим миром.
Однако, тихое колыхание кареты, чудесный запах первого снега, неопределенность, вечер — все эти успокоительные силы ничуть не уменьшили моего негодования при воспоминании об А… — воспоминании, которое преследует меня, преследует, как дикого зверя, не давая мне ни минуты покоя.