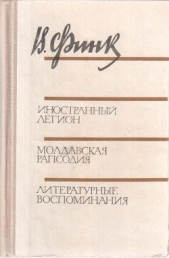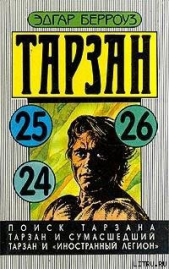Иностранный легион

Иностранный легион читать книгу онлайн
Хотите узнать о жизни настоящих джентльменов удачи, о реальных судьбах людей, не побоявшихся и сегодня поставить на карту свою жизнь против денег? Лучшее подразделение мира — Иностранный легион. А знаете ли вы, что самые известные и отважные герои Легиона были нашими соотечественниками? Вы откроете для себя неизвестные страницы кровавой истории Легиона, узнаете о судьбах многих русских, вынужденных воевать за чужое государство. Вместе с легионерами вы пройдете по пыльным дорогам Алжира и вьетнамским болотам.
А если в вас еще жив дух авантюризма, вы можете испытать свою удачу, записавшись в Иностранный легион. Возьмете себе другое имя, выберете судьбу наемника и своими глазами увидите, каковы рассветы в Африке.
Книга даст вам несколько важных практических советов, как стать легионером.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Преступление и наказание, или Каторга и легионеры
Ниже вниманию читателя предлагаются отрывки из записок журналиста Альбера Лондра «Бириби — военная каторга», выпущенных в Ленинграде в 1926 г., впервые из французских журналистов посетившего французскую каторгу в Северной Африке, на которой оказалось немало легионеров в виде наказанных или взятых в подмогу военной юстиции в качестве экзекуторов. Печатаются с сокращениями страницы 49, 57, 58, 66. «…Вот повар Гуа. Гуа — старая кляча. Он дебютирует в арестантских батальонах. После 3 лет «честной и верной службы» он «взгревает» унтер-офицера: 10 лет общественных работ. Он проделывает все дисциплинарные лагери: в Тунисе — Тебурсук, в Алжире — Дуэру и Боссюэ. Возвращается во Францию. Война, поступает в Легион, там убивает человека: снова 5 лет. Он с нетерпением ждет освобождения, чтобы опять поступить на службу. Он рассчитывает выйти на пенсию сержантом!» «…Иногда военной юстиции не хватает рук, требуется подмога. Таким образом, и попадают сюда из Иностранного легиона сержанты-немцы. Один из арестантов рассказывает: «Один из них избил меня рукояткой револьвера и связал «жабой», т. е. так, чтобы связанный походил от удушья на жабу, и положил меня головой над парашей. Потом ушел. Вечером фельдфебель меня развязал. Немец вернулся с работ. Он просунул свою мерзкую рожу в палатку и спросил меня: «Ты еще не околел, паршивец?» Увидев, что меня развязали, он связал меня снова. Я пролежал «жабой» до утра. Он мне отплачивал за Верден». Другой рассказывал так: «Он заставлял нас брать раскаленные камни из печи для обжигания извести. И еще измывался: «Мешки, — говорил он, — нужны отечеству. Для вас, паршивцев, они слишком дороги». Третий рассказывал: «Бывало, немец мне говорит: «Покажи-ка мне спину!» Я поворачиваюсь… «Нагнись!» Я нагибаюсь. Тогда он пользуется моим незавидным положением и пинком ноги опрокидывает меня носом в землю. «Поди сюда, повернись!» Я поворачиваюсь. «Нагнись». Я нагибаюсь, он опять сначала, пока ему не надоедает». «Каторжан для работ отдают подрядчикам, которые выжимают из них все соки, чтобы получить больше выручки. Для контроля над трудом каторжан опять берут сержантов из Легиона. Однажды подрядчик сказал сержанту: «Мне нужно утром 64 квинталя дров, [529] устройте это, вознаграждение Вам будет увеличено». Нас было тогда 45 человек каторжан. Надо было видеть сержанта П.! Сержанты получают тайком от подрядчиков дополнительные деньги: «Стрелки, стрелки, подгоняйте! — кричал он. — Ну-ка, хлыстом, прикладом, живее!» Отстававшие платили спиной… Всего в том лагере, Сиди-Мусахе, бывало. Например, случай с Лекильоном, легионером.
— Дай мне табаку, — сказал ему накануне один сенегалец. Они здесь были стрелками, а некоторые были и в заключении. Нет! Твоя плохой товарищ, моя кончал с твоей. На следующий день находят Лекильона с резаком, которым валят деревья в руке перед деревом, которое он срезал. Что с ним случилось? Как что? Умер».
Литературные произведения о пребывании русских во Французском иностранном легионе.
Воеводин А.А. Тягота Кто раскроет единственный смысл человеческой жизни, кто разгадает ее пути? Кто прекрасную душу человеческую, опаленную божественным словом, отвратить от темной бездны? Опалила душу Игоря тоска — тягота сердечная, к тому месту тягота, где родила его мать, где оставил неиспитую женскую любовь. Неправильный четырехугольник серого камня с двумя зубчатыми башенками придавил невысокий холм. Старые стены прорезаны узкими бойницами. Со склонов холма разбежался, раскинулся грязно-белый арабский городишка. Желтый минарет нижет иглой теплый воздух. Под ним белый купол марабу. Из-под белого камня струится источник, теплые воды которого собираются в бассейны. Много медленных черепах и блестящих черных змей живет в теплых водах бассейнов. Внутри здания на холме — мощеный двор. Одна из сторон его отведена под конюшни и гараж. Здесь расположен эскадрон Иностранного легиона. Здесь люди всех цветов и национальностей. И в какие неестественные, грубые формы отлилась жизнь этой кучки людей, собранных несчастием изо всех стран. Пьянство и порок поощряются. Они разлагают душу, стирают воспоминания о прошлом. А когда нестерпимой становится тягота к оставленному — сильные побеждают и возвращаются, — слабые падают, раздавленные железной пятой сурового закона борьбы, и крики их тонут в глубоких песках пустыни, в сухом треске выстрелов быстрой арабской шайки. Эту маленькую крепость, этот военный пост, затерянный в диких горах, арабы почтительно называют «казба». Дымящееся от усталости солнце ушло на запад за каменные горы, из потемневшей пустыни подул горячий ветер — будто кто открыл дверцу железной печи… Подстегнутое сердце бьется неровно и тревожно… Кривые, узкие улочки белого городка обильно политы вдоль слепых стен. За столиками кафе арабы в белых бурнусах тянут сладкий черный кофе и из тоненьких трубочек курят такрури, от которого надолго странно деревенеет тело. Тихо, не колеблясь, пылают красные язычки фонарей и плошек в теплых, лиловых сумерках. Над дверями лавочек темными силуэтами висят соломенные веера-топорики, у входа янтарем отсвечивают груды фиников, искрами бронзы блестят крупные сливы. В смутных сумерках чуть намечаются горбатые фигуры лежащих верблюдов. Игорь долго, бесцельно бродит по улочкам под руку с легионером-турком Ахметкой… Белые бурнусы арабов, красные огоньки плошек воскрешают в душе праздник. Весенний темный зов, светлые передники гимназисток, идущих к вечерне… Ночь милого юношества в страстной четверг — родная и верная, как объятия матери… Цветные фонарики тают и вспыхивают. Несут свечи в бумажных фунтиках, защищая ладонью, чтобы не потух святой огонь. Гимназистки веселыми задорными стайками, как весенние птицы, носятся по бульвару, и слышен звонкий смех Наташи… Хочет подойти к ней, но не идет. Полон робости и про себя твердит ласковые глупые слова… В кафе часы показывают шесть, и они бегут по улочке, расталкивая арабов, чтобы не опоздать к вечерней поверке. Опоздаешь — сержант Денизо с довольным смехом навесит на плечи тяжелый ранец с камнями и выставит с винтовкой у дверей казармы. Или еще хуже — даст ведро и веревку и заставить вычерпывать нечистоты из уборной. В зловонных объятиях правды умирают воспоминания, гаснет мечта… Игорь спешит. За ним широко шагает Ахметка, бормочет:
— Не опоздай… худо… Во дворе казармы поверка. Вытянувшись всем телом, стоит Игорь в строю рядом с коричнево-черным великаном — арабом… А когда выходит из рядов, встречается с Мишелем Гойером, — русским евреем из Звенигородки, бывшим во время войны в экспедиционном корпусе во Франции. Мишель ехидный, хитрый человек, тайный коммунист. Он останавливает Игоря.
— Здравствуйте, поручик, — все скучаете? — А потом наклоняется близко-близко и, дыша в лицо нестерпимой вонью загнившего рта, ехидно и зло хихикает. — Так как же? Единая, неделимая? Умрем за родину?.. Эх, вы! Ублюдки белогвардейские, царские приказчики! Весь мир перевернем, камня на камне от вас не оставим!.. — И отходит, хохоча и подмигивая. В стороне два француза тихо разговаривают, ожесточенно жестикулируя:…И ты… Я?.. Марсель не пошла со мной… А я думал, что она не больна. Вернулся и Опустив голову, минует их Игорь и уже сзади догоняет его громкий шепот:
… И ты? Я? — Я зарезал ее ножом… Игорь идет в казарму, раздевается и долго лежит на койке в столбняке, и кажется, что это не действительность, что это ужасный сон… Кто-то дергает его за руку. Низко напряженные, с высоко поднятыми дугами бровей глаза Ахметки.
— Душа горит, Горика, терпеть не могу. В Салькори жена, дом остался. Не знаю — целый ли, но знаю — что есть… Душа горит, Горика… — И уже во сне плывут в полосах серебристого сияния между коек арабов, немцев, французов, русских — плывут скорбные лица стариков, милой Наташи — неиспитой любви женской… В праздник революции весь гарнизон маленькой казбы выстроен вдоль стен двора. И вот пришли офицеры читать торжественный приказ. Скомандовали на караул. Игорь стоит рядом с арабом, почему-то вспоминает последний день эвакуации, дышащие в легкое утреннее небо черные трубы. Грустно и сладко вспоминается родная земля, а там, на горе, домик, и он знает, что из окон на пароход смотрит Наташа. Руки четко отсчитали в рядах команду. Звякнули ружья, сверкнув лезвиями штыков, и стали острым палисадом. И вдруг грохнул неожиданный выстрел. Взметнулась в душе тревога. Как в кино, отчетливо быстрыми и на минуту застывшими движениями метнулись люди… Таким неожиданным был испуг, что не заметил Игорь, кто выстрелил. Не понял сразу в чем дело, не видел, как у свалившегося на землю швейцарца черным потоком хлынула из разбитой головы кровь — залила камни жирной лакированной лужей… Опомнились. Бледные лица. Суета. Неуверенные, смятенные движения, подчеркнутые крики команды… Кучка офицеров в голубых кэпи склонилась над трупом. Поползла из кармана белая полоска письма… Столпились. Прочли и спрятали. На лицах застыла каменная торжественность и лицемерие. После обеда по комнатам казармы ходили капралы и, отталкивая легионеров от коек, рылись в вещах. Переворачивали тюфяки, выбрасывали на пол из деревянных сундучков вещи и грозили судом. Потом строили по взводам людей и опрашивали… Трех легионеров увели ночью, и с тех пор их никто не видел. Ходили смутные слухи, будто после суда их отправили на принудительные работы в южные рудники… Хоронили швейцарца недалеко от касбы. На длинных тонких медных трубах трубачи играли похоронный марш. Нестройным залпом выстрелил в небо взвод, рассеял вокруг запах пороха. Отдало в плечо прикладом. После ненужного залпа так радостно и победно лилась с неба песня какой-то маленькой пичужки, и в ее звонкой песенке купалась, омывалась душа Игоря. На могиле офицеры говорили речи, а солдаты стояли молча, потупившись. Начальник гарнизона, бравый капитан с мясистыми, иссеченными красными жилками щеками и выправкой вахмистра, кончил свою речь так: «Вы, солдаты великой Франции, не должны обращать много внимания на этот прискорбный случай… Вы пришли изо всех государств, чтобы добровольно послужить великой французской нации, потому что вы поняли, что это самая великая нация на свете… Швейцарец Теодор Пикрэ быль хорошим солдатом и служил уже третий год. Мы отметили его способности и рвение и хотели произвести его в капралы, и нам очень жаль, что он убил себя нечаянным выстрелом из ружья… Солдаты, обращайтесь аккуратно с оружием и помните, что ваша жизнь нужна Франции. Да здравствует великая Франция!» На могильный крест Теодора Пикрэ прибили доску с надписью: «Умер за Францию». Отуманенный вернулся в казарму Игорь, и, против обыкновения, не подошел к нему Мишель. Он ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, нахмурив брови и сосредоточенно думая… Особенно ненавистной, безнадежно тяжкой казалась жизнь. Прошлое вспоминалось, точно беззаботное, счастливое детство… В спутанных мыслях вдруг отчетливо нарисовался образ милой Наташи, ее родная усмешка и родинка у края губ… До сих пор не писал ей, не хотел, чтобы знала, где он, чтобы знала «вольную каторгу» — цену за жизнь… А теперь не смог. Не удержался — и сел писать. Писал, и удивлялся, и мучился, потому что не выходило то, что хотелось. Так много прошло в разлуке, так много не сказано, и все кажется важным, и не сказать нельзя… А жизнь свою, а тоску по ней и любовь живую написать не мог, — или казалось ему, что не так выходит. Так и не написал письма Наташе. Изорвал в клочки написанное, лег на койку, втиснул лицо в подушку… Вечером отпросился в отпуск. [530] В грязном баре пил плохое красное вино. В облаках табачного дыма причудливо, дико переплетался разноязычный галдеж и хриплая песня солдатских проституток. Дни шли за днями, серые и пыльные, одинаковые и нудные. Забывались, растворялись в глухой тоске, в теплом дыхании ветра… Настойчиво жаловался Ахметка и звал бежать. Язвил Мишель Гойер, и вопросительно смотрели свои русские, тяжело вздыхали и мучились от недостатка воды… Рано утром вызвали эскадрон во двор казбы. Построили, раздали по восемьдесят восемь боевых патронов и приказали седлать коней. Суетливо бегали офицеры. Фуражиры готовили запасы корма. Муэдзины призывали правоверных к утренней молитве. День выдался тихий и жаркий. Парило, как перед дождем. Остро сверкали на солнце белые кубики домов, и купол марабу снеговым комом горел на рдеющем темно-синем небе… Белые крылья бурнусов, коричнево-бронзовые лица, надорванные крики верблюдов — все было как-то празднично в легкой свежести утра. На базаре рядом сидят сморщенные, высохшие старики, поставив между колен высокие кривые палки. Вокруг них — гурты скота, приведенного на продажу. Белая пыль сеется в воздухе, тончайшим слоем покрывая кучи фиг, связки лука, корзины с тяжелым виноградом. Продавцы орехов выкрикивают: «А-кака-уй-йя… А-кака-уй-йя…» Эскадрон вышел на шоссе и затрусил в облаках мелкой, известковой пыли. Потускнело небо, затуманились края его над скалистыми горами, и пасущиеся верблюды, подняв гордые головы, провожали стадо людей, пережевывая жесткие колючки. На привале у бассейна прозрачной прохладной воды, под навесом широколистых фикусов и пальм Ахметка лежал рядом с Игорем и, тыкая пальцем в сторону купающихся в пыли воробьев, говорил: