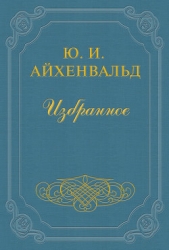Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
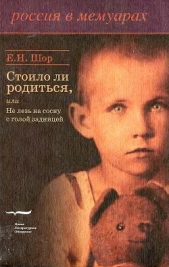
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот рассказ сохранился в рукописном виде, как и многие другие, не напечатанные в журнале. Некоторые остались в черновиках, другие переписаны набело, но есть и целые рукописные журналы — тетради с рассказами, сказками, стихами, с мелкими рисунками и виньетками. Автор один — мама, но чтобы журнал не отличался от печатных, в оглавлении напротив каждого заглавия вписана выдуманная фамилия.
Маме было 12–13 лет, когда она писала эти рассказы. Почерк уже довольно мелкий, но старательность еще совсем детская. Стихи записаны в тех же тетрадях, среди них есть сентиментальные (мать с дочерью приходят к свежей могиле бабушки, и девочка хочет умереть, чтобы мать приносила ей на могилу цветы, — в конце стихотворения изображен крест над могильным холмиком) или романтические с тайной (под видом сказки мать рассказывает детям, как злые люди убили ее отца и мать, — не о погроме ли речь?). Лирические стихи кажутся написанными девочкой постарше, почти девушкой. На мой вкус, они музыкальны. Вот «Серенада», после которой нарисована пером лютня.
Мамина проза написана в духе сентиментальной детской литературы того времени. В этой литературе были, как в фольклоре, постоянные образы и словесные фигуры, и мама ими пользовалась не хуже признанных авторов — ее превосходная память удерживала все, независимо от ее воли. Маме, видно, писалось легко, пока она удовлетворялась готовыми формами. Ей еще не приходило в голову, что, поступая таким образом, она не может передать свои мысли и чувства, что она и ее персонажи сложнее того, что получается в ее сочинениях.
Сохранились еще частично напечатанные в «Детском чтении», частично написанные от руки письма («Кате от Жени») о путешествии за границу в Германию и Швейцарию. Все описано живо, подробно и ясно.
А каникулы в Крыму нигде не описаны. Зато мама показывала мне разноцветные округлые камешки, собранные на крымском берегу. Они лежали в круглой коробочке, обтянутой белой атласной тканью с тиснением, а коробочка находилась в книжном шкафу. Мама отпирала шкаф, вынимала коробочку и давала мне перебирать камешки и кое-что рассказывала о них, но не отдавала мне их насовсем.
От этих каникул осталась еще красиво написанная от руки афиша, в которой сообщается, что в Судаке будет представлена «пиеса «Сладкий пирог»». В пьесе четыре действующих лица, всех играют девочки, на последнем месте «Маша (горничная) — Розалия Шор». Во втором отделении — декламация, и мама там тоже фигурирует: ««Бабушка и внучка» — прочтет Розалия Шор».
Одно из последних сочинений — отрывок в полторы главы детективного романа «Несчастный слепец», герой которого — знаменитый сыщик Нат Пинкертон [106].
Может быть, если бы не было революции и маме не пришлось бы работать как ломовой лошади (по выражению Марии Федоровны), основным бы для нее была наука, а в дополнение она писала бы детские книги? Мне страшно интересно читать эти сочинения — в них так простодушно выражает себя эта девочка, — я не знаю, как к ним отнесся бы сторонний читатель, ведь я-то ищу в них маму, ее жизнь: так, она ничего не пишет о семейных ссорах, дома — идиллия, зло — вне дома.
Это желание выделить из себя, выразить свои чувства было и моим желанием, но оно у меня появилось в юности. В детстве, после того как «Баран и курица» не получили похвалы, я ничего не писала (а был тоже задуман сборник). Правда, в одной записке маме (мне девять лет), желая ее развеселить, я нарисовала человечка, совсем не похожего на директора школы, которого я хотела изобразить, и написала то, что назвала «Стихи»:
Что твой Хлебников!
Моих сочинений не осталось, есть несколько изложений 6-го или 7-го класса. Они наивнее маминых школьных работ, я менее свободно распоряжаюсь фразами, я менее развита, но — не ошибаюсь ли я? — я яснее вижу то, о чем пишу, и это должно бы передаваться читающему.
Лет семнадцати-восемнадцати я снова попробовала писать, написала несколько романтических страниц, но написанное оказалось подражательным и водянистым. Я посчитала, что сначала нужно пожить и все испытать, а пока ничего у меня в жизни не получалось, я стала вести дневник. При всем плаксивом лиризме записей тех лет, меня, когда я их перечитала, поразило «мое» — оно осталось тем же.
Меня очень удивляло, что в дневнике получается не так, как мне хотелось. В него почему-то не попадало мое остроумие и никак не отражалась «жизнь страны», которую я несколько раз пыталась с усилием вводить туда.
Случайно в 1944 году я оказалась на Садовом кольце на Калужской площади, когда через Москву прогоняли пленных немцев. Они шли рядами, но не в ногу, на них была военная форма, но грязноватая, несвежая, и лица у них были усталые, загорелые, красные, небритые и тоже грязноватые. Я не испытывала к ним никакой ненависти, мне было их жалко. Стоявшие вдоль улицы люди молчали. Только когда в одном из рядов показался высокий, на голову возвышавшийся над остальными молодой немец с красивым лицом и перевязанной головой, какая-то женщина сказала громко: «Вот он, главный убивец». Но ее никто не поддержал. Я так все и записала в дневнике — меня зрелище взволновало. Но совсем иначе это было изображено в газетах.
Через восемь лет я стала стараться писать правду, это не давалось сразу. Чем лучше мне удавалось писать правду, тем короче делались записи, за исключением периодов влюбленности. Потом произошел кризис и родились эти мемуары.
У мамы появились гимназические подруги, девочки из таких же приличных семей, как дедушкина, и из более богатых, и еврейки и русские. Летом, во время каникул, подруги писали друг другу письма. Только одно письмо грустное, девочка живет в пансионе или ее семья содержит пансион. Упоминается только отец (матери нет?). Пишет с грубыми ошибками: «учиница», «совиршенно».
Другая подруга живет на даче в Пушкине и занимается, «бедняжка, с мамой каждый день французским, немецким, русским, географией, арифметикой и Законом». Она начинает письмо: «Дорогой Розанчик». Дача ей нравится: «В Пушкине идут спектакли два раза в неделю и мы <…> были там четыре раза, тогда шло: «Евгений Онегин» — опера, «Школьная пара», «Домашний стол» [107] — водевили и балет «Царство поэтов». Мы платили по 50-ти коп. один раз, по тридцати копеек тоже один раз и по двадцати два раза… Мы познакомились со всем Пушкином и нам очень весело».
Обе девочки подписываются: «Любящая тебя твоя подруга…»
Это еще средние классы, а вот что писали в старших… Девочка летом готовит ученицу, живет в чужой семье на даче. «А какая у меня глупая ученица <…> она любит не учиться, а целоваться». При всем том, «во 1-х, футбольный бал», на который они пошли «случайно, в домашних платьях», они — три девочки, кадет, некто, прозванный «трагик Сальвини», и «еще один синьор». «На балах теперь не танцуют», и они ходили «то в одну сторону, то в другую». Потом, сидя на сене, она «выслушала теорию любви, продукт кадетского остроумия».