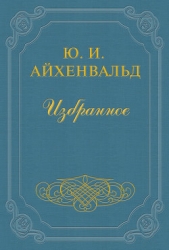Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
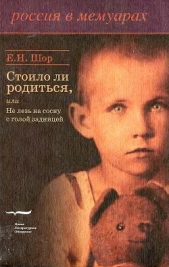
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Макс замечает, что мало писем от мамы: «…чувствую, что что-то в наших отношениях тебя тяготит… зачем же скрывать?» А мама не пишет, очевидно, потому, что ощущает, что в нем любви нет. Он получил ее письма и опять: «Это хорошо <…>, что ты сильная. Но не сомневайся. Ты мне дорога, и всегда будешь так, и приди ко мне всегда, когда захочется <…> привета или просто побыть не одной, услышать слово человеческое. Ведь <…> не дурно это, и не жалость унизительная <…> Только любовь…» Какая уж тут любовь. Я не знаю, последнее ли это письмо и как и когда произошел разрыв, возможно, через год-два после этой переписки, знаю, что мама впала в отчаяние и думала о самоубийстве. Я не знаю фамилию Макса, дядя Ма сказал, что Макс покончил с собой. Конечно, он не стоил мамы, но разве в этом дело?
Мама продолжала учиться на курсах. Пришла революция, потом началась и кончилась Гражданская война, наступила разруха.
Дедушка и бабушка как были врачами, так и остались, и дедушка продолжал работать в Бактериологическом институте, только институт стал государственным. Семья даже кое-что выиграла в социальном отношении, так как евреи теперь стали равноправными гражданами и даже получили некоторое моральное преимущество как несправедливо угнетаемая царизмом национальность — не знаю, сколько и как бы мама работала, если бы не революция. Революция, безусловно, открыла ей дорогу в науке, устранив на первых порах дискриминацию женщин и евреев, но за это она потребовала подчинения себе. Но в плане житейском, поскольку все слои населения перемешались, для еврейской интеллигенции антисемитизм стал более ощутим — я уже рассказывала о милиционере, которого выселили по суду из нашей квартиры. В материальном же отношении жизнь стала невыносимой. Рояль «Бехштейн» [112], которым гордились (наверно, он был самой ценной вещью в семье), сменяли на мешок пшена. Я очень любила пшенную кашу (разумеется, молочную и, естественно, с маслом) и сказала маме, что не так плохо было, раз ели пшенную кашу, но мама сказала, что «пша» была на воде (потом, во время войны, я поняла, что «пша» была не только невкусна, но и непитательна и не могла насытить). Я думаю, семья не доходила до такой степени недоедания и заброшенности, какая была у меня во время войны, но бытовых трудностей хватало.
Мама редко говорила со мной о политике. Она не выражала ни восхищения, ни осуждения. Однажды сказала, что во время Гражданской войны силы и шансы на победу у белых и красных были одинаковы, но красные победили, потому что белые восстановили против себя простой народ своим к нему презрением и зверствами (кажется, так). Я уже писала выше, что мама считала единственно хорошим делом революции решение национального вопроса и что начало возрождения русского национализма, которое она увидела в фильме «Александр Невский», ее расстроило. Но она не успела пострадать от этого возрождения.
К маме часто приходили по работе коллеги, редакторы, машинистки и курьеры, приносившие или уносившие рукописи, гранки и т. п. Я не чувствовала робости перед этими посетителями и посетительницами, хотя не была ни бойка, ни развязна. Мама так хорошо, дружелюбно ко всем относилась, что для меня было наслаждением присутствовать при ее встречах с кем-нибудь (и слушать, как она говорит по телефону). Но однажды другое, неприятное и неприязненное, хотя очень слабое, чувство возникло во мне. В комнате был незнакомый мне человек. Он что-то сказал, и в минимальном, но замеченном мной смущении мамы было то, что породило у меня звериное чувство не допустить, удалить, изгнать. Это было очень слабое чувство, но также протест против существования другого мира, мира взрослых, которому я противопоставляла свой домашний мир любви ко мне и от меня. У меня еще не было так мучившего меня позже и окончательно не преодоленного мной и сейчас разделения мира на два, мир чистый и мир нечистый, но мир взрослых отнимал маму у меня, а во взглядах и голосах было что-то, против чего я восставала, что я хотела, чтобы его не было вообще. Мама могла уйти в этот мир, а мне хотелось, чтобы она была только в моем, нашем мире.
Записки мамы попали ко мне в 1966 году. Вот как это случилось.
В нашем доме начинался ремонт; нужно было освободить чуланчик за темной комнатой Натальи Евтихиевны. Наталью Евтихиевну уже переселили в другой дом. Она раньше показывала мне дверцу, прикрытую занавеской, за которой находился очень маленький, без электричества, чулан. Она туда складывала ненужные вещи, там же хранились деревянная форма для пасхи и медный таз для варенья.
Я заглянула в чуланчик и увидела там ящики, какую-то утварь, доски — все покрытое слоем совершенно черной пыли. Мне страшно было дотронуться до этого, я не предполагала, что там может быть что-то ценное.
Но в чулане нашлась тетрадочка из писчей нелинованной бумаги (страница большего размера, чем теперь, сложенная вчетверо), исписанная чернилами, мелким аккуратным, в некоторых местах очень мелким почерком. Это был дневник, веденный мамой после смерти человека, которого назову Л. Очевидно, где-то еще я нашла несколько писем и записок мамы и Л., и еще есть у меня вырванные из общей тетради листы — дневник Л.
Записи мамы велись сразу после смерти Л. и выражают любовь и безутешное горе. Начинается дневник 22 ноября 1920 года, через шесть дней после смерти Л.
Я сейчас забыла, как любят, забыла радость и муки, я их представляю себе бледно, слабо. А это была любовь. О любви мамы к Максу я сужу по его письмам, то есть по письмам того, кто любил меньше и раньше перестал любить. Весь мамин дневник — разговор после смерти, страстное отчаяние. Дело в том, что Л. принадлежал к непонятному для меня, да и для мамы тоже, — это явствует не только из родства наших натур, но и из того, что мама пишет о себе, — типу людей, без особой на то причины стремящихся к смерти, к самоубийству.
В своем дневнике — часть, которая сохранилась, начата 20 декабря 1916 года и кончается июлем 1918 года (тут как раз они познакомились) — Л. постоянно об этом пишет. За исключением нескольких страниц, дневник написан по-немецки, готическим шрифтом, который я в детстве поленилась выучить, и не могу ничего прочесть, кроме тех страниц, которые написаны по-французски или по-русски. Во французских и русских записях нет конкретных событий, господствуют чувства, что все в мире — мрак, и стремление уйти от мира в смерть. В письме к маме Л. приводит стихи (не знаю чьи):
С таким чувством обреченности нельзя побороть болезнь. В 20-м году умереть было проще простого, и Л. умер от заразной болезни (тифа?).
Это была любовь, взаимная до конца.
Три бумажки с письмами, но только в одном письме обращение; может быть, они не полны, а может быть, так записывалось. Письма написаны за год до смерти Л.: «…когда я умру, ты будешь читать эти письма как ты всегда прощала меня <…> мне хочется сказать тебе: Будь благословенна!»
И Макс тоже: будь благословенна. Уже два раза, а маме двадцать пять лет.
Дневник написан ровным почерком, ни одного пропущенного знака препинания, ни одной описки. А вдруг он переписан с черновика? Мне пришла в голову безумная мысль, фантазия: это художественное произведение. Не может быть! Продолжение написано через четыре месяца, начиная с последней страницы перевернутой вверх ногами тетради, и с такими подробностями, каких не выдумывают. И есть дневник и письма Л.