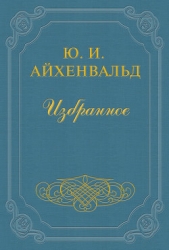Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
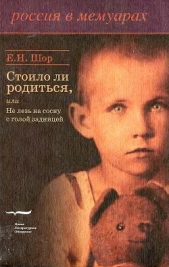
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я сказала уже, что сначала дед и бабка жили в Чернышевском переулке, потом переехали в дом на углу Большой Никитской и Хлыновского тупика. Часть окон выходила на улицу; мама рассказывала, как совсем маленькой девочкой видела похороны Баумана, за гробом которого шло множество людей (мама купила мне книгу про Баумана «Грач — птица весенняя» [98], Бауман мне очень полюбился, и я горевала, что его убили). Третья и последняя квартира бабушки и дедушки была лучше прежних. В ней было шесть комнат: три с окнами, выходившими в Хлыновский тупик, и три с окнами во двор.
Комнаты с окнами в тупик были довольно темные: напротив стоял высокий дом, а тупик был узкий. Две из этих комнат были врачебными кабинетами — бабушка и дедушка принимали каждый своих больных. Между кабинетами была большая гостиная, в ней же пациенты ждали, если кабинет был занят. Эти три комнаты составляли анфиладу — белые двери открывались из кабинета бабушки в гостиную и из гостиной в кабинет дедушки, но в первые две комнаты были двери из передней, а в кабинет дедушки можно было пройти из коридора через ванную. Когда они переехали в этот дом, в нем было еще печное отопление и керосиновые лампы, а нумерация домов отсутствовала, письма адресовались: «Большая Никитская, в доме госпожи Панкиной». Во двор выходили тоже три комнаты: самая дальняя от входа, угловая, с балконом, столовая, — спальня родителей и детская. В конце коридора между столовой и ванной находилась уборная. Передняя у «парадной» двери была большая, и кухня была большая, с полом из белых досок и темной комнаткой для прислуги. Из кухни дверь вела на узкую «черную» лестницу, где была уборная для прислуги всего подъезда.
Судя по смененным ими квартирам, благосостояние дедушкиной семьи росло. Оба они работали, что в те времена случалось редко. Помимо врачебной практики дедушка занимался научной работой в частном Бактериологическом институте Блюменталя [99]. Дядя Ма говорил, что если бы дедушка не умер в 1921 году, он стал бы вскоре профессором. Дедушка умер от тифа: его сердце не перенесло кризиса, когда температура резко падает. Мама сказала как-то, что очень любила отца. Она, кажется, была его любимицей, как дядя Ма был любимцем бабушки. От дедушки ничего не осталось, кроме тех двух писем, о которых я уже сказала, и визитных карточек, одна из них относится ко времени первой квартиры в Москве и написана латинскими буквами:
«D-г med. Joseph Schor
Moscou, Bolschoi Tschernischevski pereulok, dom Malava Wosnessenia».
Еще есть косвенное свидетельство о его беспокойстве за судьбу семьи: гимназическая подруга мамы писала ей, что мамин отец напрасно беспокоится: раз он имеет право жить в Москве, то и вся его семья тоже имеет на это право, так сказал отец этой девочки. Есть несколько фотографий: везде у дедушки кроткий, близорукий и умный взгляд из-за стекол очков. На одной фотографии дедушка снят с несколькими коллегами по Бактериологическому институту. Он одет не хуже других, но это полноватые, самодовольные, «сытые» мужчины с большими усами, а у дедушки нет такого вида, он тоньше их всех и углублен в себя — не от мира сего. Я считала, что в нашей семье бабушка, Шерешевские воплощали евангельскую Марфу, а талант, дар шли от дедушки, тем более что среди его родных были известные музыканты. Я, возможно, ошибалась, потому что судила по долго жившим брату и сестре бабушки, дяде Боре и тете Иде, а они были очень terre-a-terre [100]. Эта тетка Ида раз заявила: «Все Шоры — разбойники», не знаю, что заставило ее прийти к такому заключению.
Бабушка и дедушка зарабатывали достаточно, чтобы вести жизнь, которая теперь кажется жизнью богатых людей, но в то время люди интеллигентных профессий жили намного лучше простого народа (и из-за этого чувствовали себя виноватыми перед ним) и лучше многих разорявшихся дворян, хотя у дворян были собственные дома и земли.
Этот образ жизни был непонятен мне. Мы клали хлеб на клеенку и ели суп и второе из одной глубокой тарелки. Но в один прекрасный день под глубокие тарелки от сервиза, которым не пользовались (чтобы можно было его продать), были подставлены большие мелкие (с таких тарелок никогда ничего не ели, кроме арбуза, а если второе было несовместимо с первым, его ели с небольших мелких тарелок). Суп был подан не в кастрюльке, как всегда, а в белой фарфоровой миске с ручками и крышкой, а после супа глубокие тарелки были унесены на кухню. Ножи, вилки и ложки лежали одним концом на столе, а другим на стеклянных подставках. Наверно, Марии Федоровне (с согласия мамы?) захотелось показать мне, как некогда жили и как следует жить. Я видела главным образом нерациональность этой затеи. Так мы ели лишь один раз: Наталья Евтихиевна восстала против мытья лишней посуды.
Теперь кажется, что жизнь тогда шла как по маслу, хотя, будучи евреями, дедушка и бабушка не были избавлены от тревоги за себя. Они жили открыто, в доме бывали родственники и знакомые, и тех и других — много. В семье была та, просуществовавшая всего несколько десятилетий атмосфера любви, сосредоточенной в своем доме, которая была свойственна многим интеллигентным семьям, — она остается воспоминанием об утерянном рае. В такой атмосфере любви я тоже росла — и не представляла себе жизни в ненависти, постоянных ссорах и ругани, но вокруг меня она была более напряженной, сгущенной, как перед концом света.
Могу ли я увидеть себя на месте девочки, ставшей впоследствии моей матерью? На фотографиях — самая ранняя на руках у няни, маме не больше двух лет, а потом она все старше и старше — мама одета и причесана, как девочки того времени. В выражении ее лица нет ни бойкости, ни самодовольства, она не стремится «подать» себя, смотрит столько же в себя, сколько из себя. У меня такой же взгляд (чему способствовала близорукость обеих) на детских фотографиях, но мама выглядит иначе, наверно потому, что вокруг этого взгляда хорошенькое личико и его миловидность подчеркивается сложной прической и нарядным платьем.
Как это было в то время принято и распространилось и на мое детство, дети рисовали, или переводили, или наклеивали вырезанные картинки и писали, как умели, сначала печатными буквами, нежные послания своим родителям, по поводам и без повода: «Милая мама поздравляю тебя с днем рождения и прошу принять мой подарок. Желаю тебе здоровья и всево хорошего. Твоя дочка Розочка». Когда дети делали первые успехи в иностранных языках, послания писались по-немецки или по-французски, что одновременно с выражением любви свидетельствовало о том, что родители не напрасно их учат (a Fräulein [101], по-видимому, исправляла ошибки, «по брульонам [102]»): «Mon cher papa Je te souhate une bonne fête. Та fille qui t’aime. Rose» [103].
На другом поздравлении отцу мама подписывается: «Твоя дочь Розулька», — очевидно, отец так называл ее. Бонна пишет бабушке: «Дети веселы, насморк почти прошел… Розочка с таким удовольствием пишет Вам, так приятно на нее смотреть, как она выводит маленьким кулачком буквы» (маме лет пять). И родители сохранили все эти листки с нарисованным петухом (дядя Ма — «милому папе»), тетрадки с переписанным детским французским рассказиком (мама — «милой маме»), с общепринятыми, а иногда своими словами: «и сказать тебе, какая ты хорошая» (дядя Ма — своей матери).
У бабушки было свободнее детям, чем мне у Марии Федоровны. Мария Федоровна рассказывала, со слов мамы, что, приходя из гимназии, дядя Ма ложился на диван с книгой и ел французскую булку всухомятку. «Вот и испортил себе желудок», — с торжеством говорила Мария Федоровна. Для меня такое своеволие было невозможной вещью.