Шаламов
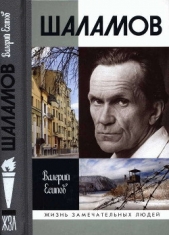
Шаламов читать книгу онлайн
Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Самое важное, что вкусы и предпочтения у всего больнично-поэтического триумвирата удивительным образом совпадали и ни у кого не было стремления к лидерству. Правда, Е. Мамучашвили, которую допускали иногда на «афинские ночи», замечала, что Шаламов держал себя немного «над» другими и, когда говорил, «интонация его была очень серьезная, менторская». Все это объяснимо: Шаламов был старше своих друзей и коллег, он обладал более весомым опытом — и лагерным, и литературным. Со всеми, с кем его соединила судьба в больнице на Левом берегу, он сохранял потом добрые отношения.
Особенно заинтересовала его тогда личность Георгия Демидова — нового фельдшера-рентгенотехника. Тот редко выходил из своего кабинета, но при доверительных встречах тет-а-тет оказывался удивительным собеседником. Демидов прямо и смело говорил обо всем, что происходило и происходит на Колыме и в стране. Он был талантливым физиком из Харькова, где работал вместе с Л. Ландау. Арестовали его в начале 1938 года по доносу об «антисоветских высказываниях», и Демидов прошел в полной мере следовательский конвейер с применением «метода № 3», получив срок десять лет. На Колыме он не застал самого страшного 1938 года, но пребывание в предвоенные и первые военные годы на общих работах на прииске Бутугучаг было не менее тяжким. Именно Бутугучаг, где заключенные работали по 20 часов и от голода вынуждены были поедать трупы (Демидов говорил об этом на следствии по своему второму делу 1946 года), родил у него сравнение: «Колыма — Освенцим без печей».
Каким образом Демидову удалось сохранить не только интеллект (на Левый берег он попал благодаря тому, что смог из старого хлама восстановить рентгеновский аппарат), но и волю, и непримиримость к сталинскому режиму — для Шаламова осталось во многом загадкой. Но недаром он называл Демидова «самым достойным из людей, встреченных мной на Колыме» и посвятил его судьбе рассказ «Житие инженера Кипреева». После Колымы они надолго потеряли друг друга, их встреча, переписка, страстный литературный спор 1960-х годов — это отдельная тема, и пока можно сказать только то, что это были два очень жестких и бескомпромиссных, выкованных лагерем, характера…
Суровый, почти монашеский ригоризм Шаламова в его больничный период отпечатался не только в памяти его коллег, но и вошел в его рассказы. Ярчайший пример в этом плане — «Потомок декабриста», героем которого является его знакомый врач С.М. Лунин. Почти всем «левобережцам», кто лично знал Лунина как доктора и как человека, его изображение у Шаламова показалось несправедливым, уничижительным, даже карикатурным. Это на первый взгляд тем более странно, что в свое время Лунин и Шаламов были почти приятелями и доктор оказал реальную помощь Шаламову на Аркагале. Но для изменения отношения к своему благодетелю у Шаламова были свои резоны. Главный из них: будучи переведен в Центральную больницу в 1948 году вместо чрезвычайно щепетильного А.А. Рубанцева, Лунин завел в хирургическом отделении совсем иные, почти «гусарские» порядки. «Друг Вакха и Венеры» — так, по-пушкински, определил его персону Шаламов. На самом деле Лунин немного играл — и переигрывал — в роли «потомка декабриста», потому что у реального М.С. Лунина детей не было.
Короче говоря, в операционной вечерами стали устраиваться регулярные пьянки. Спиртом хирурги никогда не обделялись, и сюда тянулось все больничное начальство. «Полупьяные начальники шагали по отделению взад и вперед», — писал Шаламов. Но он бы, наверное, не стал делать на этом особого акцента (ибо за лагерные годы привык смотреть на кутежи начальства сквозь пальцы), если бы при этом Лунин не бахвалился своим хирургическим мастерством. Он с презрением говорил о своем предшественнике Рубанцеве, потому что тот не сделал ни одной операции язвы желудка. Шаламов понимал, почему бывший заведующий отделением за эти операции не брался: больные-заключенные были истощенными, дистрофиками — «фон нехорош», говорил Рубанцев, не желавший рисковать. Но Лунин, которому не был чужд профессиональный цинизм, экспериментировать на больных не боялся, он забрал из терапевтического отделения несколько язвенников и прооперировал их. Никто из них не выжил. В результате этого и возник очень серьезный конфликт между Шламовым как старшим фельдшером и Луниным как завотделением, ставший кратким эпизодом рассказа:
«— Сергей Михайлович, так работать нельзя.
— Ты мне указывать не будешь!
Я написал заявление о вызове комиссии из Магадана. Меня перевели в лес, на лесную командировку… Приехала комиссия, и Лунин был уволен из "Дальстроя". А я через год, когда сменилось больничное начальство, вернулся из фельдшерского пункта лесного участка заведовать приемным покоем больницы.
Потомка декабриста я встретил как-то в Москве на улице. Мы не поздоровались».
Врачебная и человеческая этика не так уж расходятся, и поэтому правоту Шаламова трудно как-либо оспаривать. Притом что Лунин был действительно хороший хирург и неплохой (по многочисленным воспоминаниям) человек, лишь иногда впадавший в подобный раж (что можно объяснить опять же его положением многолетнего заключенного Колымы). Этот случай — как и рассказ, с сохранением реальной фамилии! — дает возможность, может быть, наиболее осязаемо почувствовать чрезвычайную нравственную строгость Шаламова, отсутствие у него какой-либо снисходительности к человеческим проступкам и слабостям [46].
История с Луниным дает много поводов поразмышлять и об особенностях лагерной медицины, и об изменениях в психологии ее представителей. Мы имеем случай убедиться, что Шаламов подчас «перегибал палку» (даже по лагерным, а не только по обыденным меркам) в суждении о людях. Это, несомненно, — особая трансформация его врожденной честности, заставляющая говорить либо о гипертрофии этого качества под влиянием лагерных условий, либо об атрофии любого чувства жалости — по тем же причинам. Он и сам это осознавал. Недаром рефреном его колымского опыта стали слова: «Лагерь — целиком отрицательный опыт для человека, ни один человек не становится лучше после лагеря». Об этих необратимых изменениях в своем характере со всей беспощадностью к себе писал он в рассказе «Вечная мерзлота», посвященном чуть более позднему периоду. Став самостоятельным фельдшером, Шаламов отказался у себя в медпункте от услуг заключенного-поломоя, сочтя его симулянтом. Это грозило тому отправкой на общие работы, в забой, а он был действительно больным. На следующий день он повесился в конюшне. Шаламову пришлось видеть весь этот итог. «И я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине, и жизни» — так кончается этот один из самых трагических рассказов писателя…
Из всего, связанного с Левым берегом, можно судить, что Шаламов оценивал лагерных медиков отнюдь не так однолинейно, как, скажем, А. Солженицын (видевший в них, судя по «Архипелагу ГУЛАГ», лишь пособников палачей). Годы фельдшерской работы не только спасли жизнь Шаламову, но и в итоге благотворно повлияли на его изломанную лагерным миром психику. Это особенно проявилось после освобождения, когда он работал вольнонаемным фельдшером в дорожном управлении Оймякона. Маленький, но характерный штрих его биографии этого периода вспомнил много лет спустя бывший заключенный, вологжанин А. Кабанов. Однажды он тяжело заболел, и Шаламов выручил его, специально достав для своего земляка дефицитный в то время пенициллин. Таких случаев в фельдшерской практике Шаламова, несомненно, было немало — недаром потом в письме Борису Пастернаку он писал: «Меня помянут добрым словом и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие». Он постепенно переставал быть «волком», как он себя называл («…я и сам был волк — и научился есть из рук людей» — эта почти киплинговская метафора из рассказа «У Флора и Лавра» чрезвычайно красноречива).
Немаловажную роль в этом переломе сыграла его лесная командировка на ключ Дусканья. Он провел здесь почти полтора года — 1949-й и 1950-й, которые вернули его к той жизни, о которой он так давно мечтал, — к одиночеству, тишине и спокойной сосредоточенности. Это был поселок лесорубов, где заготавливали лес и дрова для больницы. Под фельдшерский пункт там отвели отдельную избушку, в которой Шаламов и работал, и жил. Пациентов было мало, объезды участков по реке, на моторной лодке (зимой — на санях), занимали не так много времени, начальник, участник Гражданской войны, сидевший в 1937 году в Лефортове, Я.О. Заводник знал Шаламова и особо не донимал его. С питанием и махоркой тоже проблем не было. Не зная, сколько продлится это счастье, Шаламов все свободное время отдавал стихам. Впервые после почти двенадцатилетнего перерыва он получил возможность писать. Писал на всем: на бумаге, оставшейся от фельдшера-предшественника, на оборотах бланков и дежурных журналов. Здесь, на Дусканье, он прикоснулся к космосу, к звездам, которые в Северном полушарии гораздо ближе к земле. Прикоснулся к природе — камню, дереву, цветку и научился понимать их. Он уже не сидел взаперти и часто гулял по своей любимой тропе, ведущей вглубь тайги. Его маленький лирический рассказ «Тропа» — как раз о ней. Здесь, на этой тропе, поначалу и сочинялись, проговаривались, наборматывались (его любимое слово)стихи.






















