Шаламов
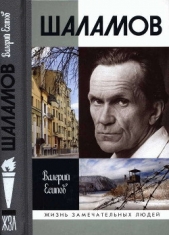
Шаламов читать книгу онлайн
Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шаламов был глубоко благодарен ей — «черной маме», как ее называли все заключенные. «Черная» — из-за ярко выраженного кавказского типа (она была осетинка), а «мама» — из-за ее открыто и смело выраженного милосердия, стремления во что бы то ни стало спасать людей, не обращая внимания на то, что они — отверженные, грязные, вшивые, психически неадекватные, а многие — еще и подозрительные с политической точки зрения. Это тем более удивительно, что она верила в Сталина, являлась членом ВКП(б) и была единственной вольной (вольнонаемной) на всей Беличьей.
Выбравшая добровольно работу на Колыме в 1942 году, после окончания 1-го Московского медицинского института, ученица Н.Н. Бурденко, Н.В. Савоева была, несомненно, одной из тех немногих честных и деятельных идеалисток, на которых держится мир и которые внушают окружающим веру в добро. Она понимала идеал как суровую и необходимую повседневную работу. Первое, что она сделала, — добилась от начальства, чтобы в больнице не было конвоя и колючей проволоки. Затем — с помощью врачей-заключенных и просто заключенных с разными специальностями — устроила здесь «маленький оазис», где появились не только свой рентгенкабинет, пункт переливания крови и ванные с душем для больных, но и тепличное хозяйство, где летом выращивались помидоры и огурцы. Вечно занятая, она редко находила время для личного общения с Шаламовым, но все же, питая неискоренимый интерес к высокому, к литературе, имела с ним несколько откровенных бесед — они были важны и для нее, и для него.
Именно Н.В. Савоева первой сообщила Шаламову услышанную ею в пути на Колыму, во Владивостоке, новость — о смерти О. Мандельштама на «Второй речке», включая и подробность: «Он был уже мертв, а соседи по нарам еще два дня получали за него хлеб, завтрак, обед, ужин» (все это глубоко врежется в память Шаламова и запечатлеется в рассказе «Шерри-бренди», написанном в 1954 году и прочитанном на вечере памяти Мандельштама в 1965-м). В свою очередь, Шаламов раскрылся перед Савоевой и Лесняком, читая им стихи — не свои, а любимых поэтов. Этих стихотворений, целиком восстановленных в памяти и не только прочитанных, но и переписанных затем в две тетради, подаренные там же, в больнице, Нине Владимировне, было около шестидесяти! От Пушкина, Тютчева и Блока до Есенина, Маяковского и Сельвинского, от А.К. Толстого, Бунина и Ходасевича до Северянина, Антокольского и Н. Тихонова. И отнюдь не хрестоматийных — например, у Бунина — «Каин» и «Pa-Озирис», у А.К. Толстого — «Василий Шибанов», у Н. Тихонова — «Гулливер играет в карты»… Феноменальная эрудиция и память Шаламова сразу поразили Савоеву! (Они поражают любого человека — могу свидетельствовать о собственных чувствах, испытанных в сентябре 1989 года при встрече с Н.В. Савоевой и Б.Н. Лесняком в Москве, где они показывали драгоценные для них тетради с этими стихами, написанными каллиграфическим на тот момент шаламовским почерком.)
К сожалению, точной датировки этих тетрадей нет, но можно догадаться, что они относятся если не к полному выздоровлению Шаламова, то к близкому к этому периоду, то есть к концу лета—осени 1944 года, когда он, благодаря Савоевой, был устроен при больнице сначала санитаром, а затем «культоргом». Культурный организатор не был сильно обременен трудами — он должен был читать больным газеты, выпускать стенгазеты, а кроме того, был ответственным за сбор грибов и ягод. На такую же «привилегированную» должность — сестры-хозяйки — по сведениям Савоевой, была устроена в Беличьей Евгения Гинзбург, будущий автор «Крутого маршрута», доставленная сюда из «Эльгена» (сама Гинзбург писала, что она была медсестрой туберкулезного отделения). Шаламов видел ее только мельком, потому что она прибыла в августе 1944 года, а его относительное благополучие в роли культорга было очень кратким.
В целом пребывание Шаламова в Беличьей окружено мифами, исходящими главным образом из поздних воспоминаний Б.Н. Лесняка — с одной стороны, малодостоверных, с другой — пристрастных к своему герою (на то оказались свои причины, связанные с конфликтом между Шаламовым и Лесняком в начале 1970-х годов, — подробнее об этом в главе семнадцать). Например, Лесняк писал, что его подопечный пробыл при больнице целых два с половиной года (хотя на самом деле — полтора года с перерывами), при этом мемуарист утверждал — с укором и не вникая в причины, — что Шаламов «был человеком, люто ненавидевшим всякий физический труд. Не только подневольный, принудительный, лагерный — всякий. Это было его органическим свойством». Очевидно, здесь не учитывалось состояние Шаламова, окончательно еще не выздоровевшего и экономившего силы перед неизвестностью — на какие тяжелые работы его отправят после больницы. Кроме того, Лесняк не знал внутренней установки Шаламова — «на это государство я работать не буду», недопонимал и того, что тот, как интеллигент, не владеет никаким ремеслом («кроме копки канав», как признавался Шаламов). Судя по всему, мемуарист впал в анахронизм и судил о своем герое свысока, с позиции себя прежнего — молодого, неголодавшего, оптимистически настроенного человека, к тому же умельца, «мастера на все руки», что и вызвало симпатии Савоевой.
Шаламов был на десять лет старше, он сдержаннее относился к Лесняку еще и потому, что их колымские биографии слишком разнились — водоразделом здесь для писателя всегда был страшный 1938 год, которого фактически не застал молодой энергичный альтруист и будущий пристрастный судья.
Шаламов характеризовал свою ситуацию 1944—1946 годов как «скитания от больницы к забою», то есть к общим работам, и это целиком согласуется с реальными фактами, описанными в его воспоминаниях и рассказах. На Беличьей он побывал несколько раз. Еще до знакомства с Лесняком, в марте 1944 года, его, едва поправившегося, выписали из больницы и отправили назад, на ту же «витаминную командировку» [43]. Так требовали правила — не «передерживать» больных без основания, бороться за «койко-дни». А кроме того, весь медперсонал тогда возмущало то, что высокий и костлявый больной постоянно доедает чужие объедки в столовой и собирает окурки. Это сочли «глубокой стадией дементивного процесса», которому больница не поможет…
Все эти подробности описаны в одной из самых потрясающих глав воспоминаний Шаламова — «Ася». Ася была та самая Александра Игнатьевна Гудзь, сестра жены, одна из близких ему духовно людей, арестованная в декабре 1936 года и оказавшаяся в итоге почти рядом с ним на Колыме. Она узнала, что он тоже «здесь», но это «здесь», как писал Шаламов, было для него тогда за гранью реальности — «Москва, Антарктида, Генеральный секретарь ВКП(б)?», и он поначалу не мог понять — кто его разыскивает, кто передает записку? Он лежал в полузабытьи, его тормошили, спрашивали, есть ли у него родственники на Колыме, он отвечал «нет», потому что ничего не знал о судьбе Аси. Записку от нее привезли с Эльгена, Шаламов запомнил ее примерное содержание: «Я искала тебя с самого первого дня, как вступила на колымскую землю. И вдруг такая неожиданность, узнаю, что ты просто рядом, ничего больше не пишу, жди меня завтра, и мы обо всем поговорим».
Шаламов не верил в эту встречу — не только потому, что разучился верить какому-то маленькому счастью на Колыме, но прежде всего потому, что сам он в это время находился в той степени дистрофии, которую характеризует заторможенность всех реакций и сумеречное состояние. Его ответы на вопросы склонившихся над ним докторов: «Тебя ищут, у тебя есть родственница… Тварь, отвечай!» — закончились только его краткой запиской: «Ася, мне очень плохо. Перешли мне хлеба и табаку».
Ему обещали встречу назавтра — врачи сказали, что Ася сама приедет, ей дадут машину. Но завтра не наступило — Александра Игнатьевна Гудзь неожиданно умерла — она уже была больной и скончалась от крупозного воспаления легких.
Дата ее смерти — 17 февраля 1944 года, в стационаре лагеря «Эльген» — подтверждается справкой, разысканной почти 60 лет спустя магаданским писателем и следователем А.М. Бирюковым. Справка эта, несомненно, важна во всех отношениях—и для датировки всей трагедии, и для уточнения сроков пребывания Шаламова в больнице на Беличьей. Но, к глубокому сожалению, комментарий к этой справке Бирюкова обнаружил абсолютное непонимание автором ситуации и его нравственную глухоту. Ведь он назвал ответ Шаламова «мне очень плохо» — ни больше ни меньше, как «лукавым»! Будто тот был вполне здоров и не лежал, облезая кожей, на топчане для «доходяг»… (На источник вывода о «лукавости» не ссылаюсь, при желании его можно легко найти в Интернете, и крайне жаль, что А.М. Бирюков, ныне умерший, оказался столь пристрастен — и многократно, как и Б. Лесняк, — к Шаламову) Всякие домыслы имеют свойство растворяться и растекаться в этом мире, но ведь за каждым движением чьей-то прихотливой фантазии не угонишься. И могли реально Шаламов встретиться со своей единственной родственницей на Колыме — не нам судить…






















