О нас – наискосок
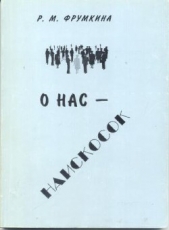
О нас – наискосок читать книгу онлайн
Сюжетообразующим стержнем мемуаров Ревекки Марковны Фрумкиной, ученого с мировым именем, основателя крупной исследовательской школы в лингвистике, были и остались занятия наукой. Занятия остро конфликтные, за которые приходилось расплачиваться дорого — здоровьем, потерей близких. Ей посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинке держали в открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели.
Драма, о которой пишет Р.М. Фрумкина, растянулась на многие десятилетия сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, достигла своего апогея в восьмидесятых годах и привела к развалу школ, утечке блестящих умов, личным катастрофам, разочарованиям и невосполнимым потерям. Ее отголоски различимы и сейчас в попытках разгрома факультета лингвистики РГГУ, собравшего в 1990-х разрозненные осколки научного сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эта зависимость пока лишь возрастает. Захотят закрыть Академию наук — закроют, захотят не выпускать за границу брюнетов — не выпустят; захотят, чтобы любая дрянная бумажка заверялась нотариусом, а не домоуправлением, — будем записываться к нотариусам за неделю и стоять часами в любую погоду во дворе конторы. Перемены идут потоком, и все дезориентированы: например, говорят, что квартиру можно будет выкупить в собственность, а можно и арендовать, но за огромные деньги. Когда, за сколько, на каких условиях?
Можно возразить, что все это мелочи по сравнению с тем, что в Ереване — непрерывные похороны, а в Москве — нищие беженцы. Но я все же думаю, что трезвость и отупение — это разные вещи. Попробуйте не обращать внимания на то, что нет спичек, почтовых марок и конвертов, не говоря уже о писчей бумаге. Я всю жизнь писала на оборотках, но огниво — это все-таки уже из Андерсена. Пока что.
Еще сюжет: вдруг без всяких усилий с моей стороны дали мне звание профессора. Все тот же ВАК, который в 70-е украл у меня несколько лет жизни! При мысли о том, что надо туда ехать, вставал передо мной весь этот кошмар с аннулированием моей докторской. Весьма «кстати» обвалилась у нас с потолка штукатурка, так что за дипломом вынужден был отправиться Юра, а я (которая профессор) осталась мыть полы. Не соскучишься!
Моя коллега из Новосибирска жалуется, что для экспериментов невозможно найти контрольную группу здоровых людей: рабочие завода, которых она обследует, как на подбор — тяжелые невротики. Да, кризисный период ломает людей, это не ново, но когда ломаются близкие люди, кого это может утешить?
Издали «Письма к Милене» Кафки. Вот кто был изначально душевно надломлен! В каждом письме он говорит о своем глубинном страхе — нет, это решительно не то, что сейчас можно читать. Утешаюсь «Записками блокадного человека» Л. Гинзбург.
Прошел первый весенний дождь. Из нашего окна пахнет тополями. Еще поживем… Вопрос, что при этом увидим.
10 августа 1991
Дорогой Андрей,
отвечаю на то письмо, где Вы рассказываете, как Ваши студенты торгуются по поводу оценок. Грустно…
В России выбрали президента, неурожай, жестокая инфляция, которая, по-видимому, только начинается.
За ветчиной по 20 р. кило — в Москве без карточек, но не более 500 г «на рыло» — стоит огромная очередь. Повышение цен привело к всеобщему озлоблению, но вовсе не к насыщению рынка. Моя «профессорская» зарплата — 600 рублей, а обычная простыня стоит 42 рубля.
Настоящие деньги — это водка. Ее дают по талонам, но уж в этих очередях никто из нас не в силах стоять. Юре, как и всем диабетикам, в спецзаказах дают подсолнечное масло и гречневую крупу, а следовало бы давать хоть какие-нибудь белки. Хлеб пока есть, сахар — рационирован и время от времени «отоваривается» (могла ли я думать, что выплывет и станет чуть ли не главным это мерзкое слово из моего военного детства?).
Я получила очень трогательную продуктовую посылку из Сиднея: три женщины, преподавательницы из «нашего» университета, собрали ее вскладчину. Одна из них училась когда-то в Ленинграде в Ин-те Лесгафта, а до того — в США, у того самого профессора Тварога, от которого я получила первое в своей жизни приглашение приехать на Запад с лекциями.
Юра сегодня стоит в очереди за моим авиабилетом до Женевы: через 35 лет работы в Институте меня впервые удостоили служебного загранпаспорта… Никакого желания ехать. Но доклад уже объявлен, да я еще где-то там председательствую.
Пишу с дачи. Кругом все те же сосны; заросшая малиной «щель» (тогда так называли окопчик), которую мы выкопали в июле 1941, после первых воздушных тревог. Необыкновенно цвели посаженные отцом уже после войны липы — как в старой барской усадьбе. Раньше все, кто здесь бывал, умилялись. Теперь удивляются, почему я не развожу на своем участке овощи и картошку. Мои молодые друзья полагают, что я не то позирую, не то ленюсь. Что ж, их можно понять: откуда им знать, что под строевыми соснами картошка пойдет в ботву? Они не голодали ни в 1942, ни в 1946 году.
Еще одна иллюстрация всеобщего развала: Институт не может платить увеличившуюся в 20 раз аренду за помещение, и весь этаж выселяют в никуда. Вчера ребята сняли со стен нашей каморки фотографии Сахарова, Лихачева и фотопортрет А. А. Реформатского, сделанный мною когда-то в день его 60-летия. [Позднейшее примечание авт. Этот портрет висит теперь в Монреале, в кабинете Игоря Мельчука, самого блестящего из учеников А. А.]
Тут меня спросили, чего я сейчас более всего боюсь. Ожидался ответ типа «боюсь погрома». Нет, мои страхи куда более примитивны: я боюсь умереть от царапины, как Базаров. Нет ни йода, ни зеленки, ни марганцовки.
Читаю Ахматову. Почему-то ее мироощущение сейчас мне много ближе, чем когда-либо. Жду писем.
7 сентября 1991
Дорогой Андрей,
отвечаю на письмо, где Вы описываете «художества» Антона по части вождения машины без прав. Да, пишите и дальше именно о всяких бытовых подробностях.
Теперь о нас. Очень трудно написать спокойное письмо. Вообще невозможно на чем-либо сосредоточиться. Путч застал меня во Фрибуре, во Французской Швейцарии. («Нашла время и место!») Узнала за полчаса до своего доклада, за завтраком. Американец, задававший мне после доклада довольно острые вопросы, вечером пришел извиняться — он ничего не знал. Очень было страшно видеть по ТВ танки около нашего дома у метро «Сокол». Для Юры утро 19 августа началось звонком моего приятеля, который сказал, что хочет на время проститься. (Потом выяснилось, что он ушел делать подпольную «Общую газету».) Так что все было — серьезнее некуда. Здесь это поняли. Мой давний знакомый, немолодой немец, юношей переживший в Берлине «Хрустальную ночь», вообще на конференции не появился: как узнал утром 19-го, так и просидел почти два дня у себя в номере гостиницы, не отрываясь от экрана. А я была в таком шоке, что не задумалась о том, что в случае удачи путча и мне мое участие в независимой прессе даром бы не прошло, — только лихорадочно перебирала возможности вернуться, если не будет самолетов в Москву (даже позвонила друзьям в Швецию).
А. провел большую часть времени на баррикадах. Вот тебе и робкий мальчик!
Вчера здесь «плясали карманьолу». Думаю, рано плясали. Теперь-то все и начинается — это действительно революция. От ТВ невозможно отойти, все бросили дачи. Никто не работает.
В церкви Большого Вознесения (ее открыли уже после Вашего отъезда) была панихида по Цветаевой. Я не люблю нашу новоправославную толпу, так что я поехала позже и поставила две свечки: одну — «за упокой болярины Марины», другую — во здравие отечества. Из чего Вы можете заключить, какое у меня настроение.
Чисто по-человечески жаль Горбачева, преданного всеми, включая личного охранника. Ельцин успел понаделать ненужные заявления — сгоряча. Что нас ждет? Вы знаете, что я не склонна к панике, но думаю, что, во-первых, голод. Талоны на сахар не отовариваются уже три месяца. Во-вторых, революционность масс — и это не слова из учебника. Хорошо бы нашу дачу не сожгли — у каждого свое «Шахматово».
Пишите!
12 октября 1991
Дорогой Андрей,
получила Ваше первое письмо из Техаса. Как Вы устроились? Пошли ли дети в школу? Что там за климат — это вроде бы Юг?
О нас писать все сложнее. Да, это несомненно революция, но жизнь идет под откос — по крайней мере мой образ жизни. Нет, мы не голодаем, но слишком много сил уходит на то, чтобы заработать хоть что-то.
Все более остро чувствую, как распадается привычный круг друзей и даже знакомых. Самоценность «другого» мира увеличивается по мере ухудшения повседневной жизни здесь: раньше ехали якобы ради детей, теперь — чтобы выжить в перспективе «мора и глада». Дети уезжают уже сами по себе, после чего начинают собираться и родители. В моем окружении почти не осталось людей, которые осознанно желают жить у себя дома — на Руси. Точнее, в Москве — это ведь отдельная страна.


























