О нас – наискосок
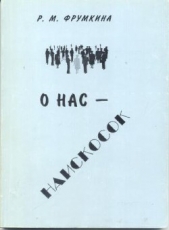
О нас – наискосок читать книгу онлайн
Сюжетообразующим стержнем мемуаров Ревекки Марковны Фрумкиной, ученого с мировым именем, основателя крупной исследовательской школы в лингвистике, были и остались занятия наукой. Занятия остро конфликтные, за которые приходилось расплачиваться дорого — здоровьем, потерей близких. Ей посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинке держали в открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели.
Драма, о которой пишет Р.М. Фрумкина, растянулась на многие десятилетия сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, достигла своего апогея в восьмидесятых годах и привела к развалу школ, утечке блестящих умов, личным катастрофам, разочарованиям и невосполнимым потерям. Ее отголоски различимы и сейчас в попытках разгрома факультета лингвистики РГГУ, собравшего в 1990-х разрозненные осколки научного сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Парастаев развернул передо мной папки и, показывая какой-то список, сказал, что в нем числится 46 человек, а на защите было 30, что не составляет двух третей. Тем самым голосование недействительно, и работа будет отклонена. Этого ему показалось мало, и он добавил: «Да и отзывы у вас плохие». После чего сделал то, что было абсолютно противозаконно, — вручил мне два отзыва. Пробежав их глазами (там было всего страниц пять), я увидела, что такие отзывы не могли быть приняты ВАК ни как положительные, ни как отрицательные. Оба рецензента, упомянув мои несомненные заслуги на ниве структурной, прикладной, а также математической лингвистики, удивлялись, почему я претендую на степень по общему языкознанию. Выходило, что, догадайся я поставить на титуле работы код другой специальности, они ничего не имели бы против.
То, как я себя повела дальше, сегодня мне представляется тем более удивительным, что, будучи всегда слаба в разговорах с чиновниками, я была подавлена смертью мамы и все происходившее воспринимала как не вполне реальные события. Я заметила, что не нахожу отзывы плохими. После чего я отодвинула через весь стол папки и сказала Парастаеву: «Я не буду смотреть эти бумаги. Ваш чиновник два года назад принял документы и расписался в том, что все в них соответствует инструкции. Был ли кворум или нет — это вообще не мое дело. Допустим, его не было — а куда же вы смотрели все это время?».
До этого момента Парастаев вел себя скорее корректно, хотя был известен как редкостный хам. Тут он мгновенно обрел свой нормальный стиль и, захлопнув папки, прорычал что-то вроде «Вы еще об этом пожалеете». Я вышла из кабинета в состоянии, близком к обмороку.
Скажу сразу, что большую часть дальнейших хлопот, встреч, тактических и стратегических решений взял на себя Юра. Я была просто не в силах ходить по инстанциям. Никакая аудитория, будь в зале хоть пятьсот человек, не вызывала у меня такого парализующего ужаса, как перспектива приема в очередном присутственном месте. Я боялась не чиновников. Я боялась обнаружить свою ненависть, тогда как нужно было прежде всего оставаться хладнокровной. Но еще страшнее было другое: свалиться с рецидивом болезни, поскольку главным провоцирующим ее фактором считался стресс.
У меня не было — и, кстати, до сих пор нет — даже догадки о том, что лежало в основе объявленной мне войны. А это была именно война, а вовсе не партия в шахматы. «Процесс» Кафки, впрочем, тоже отличная аналогия.
Я-то была уверена, что кворум был — это было последнее заседание Ученого Совета перед каникулами. Лев Рафаилович Зиндер сидел бледный и нервничал, пока все не собрались.
Что же за список показал мне Парастаев? Зачем он дал мне отзывы? А зачем мне еще летом звонил ученый секретарь ЛГУ? Лучшее объяснение в таких случаях — самое краткое — не сумев найти среди «черных оппонентов» лиц достаточно черных, чтобы получить от них отрицательные отзывы, решено было изыскать иной путь. Запугать. Заставить самой забрать работу. По-видимому, на большую изощренность чиновники ВАК не были способны.
Вечером того же дня я позвонила в Ленинград Лиде Бондарко. Она выяснила, что Парастаев показал мне бумагу, вообще не имевшую отношения к голосованию! Он подсунул мне список рассылки автореферата диссертации. Сорок шестым в нем стоял недавно назначенный декан филфака, которого не успели ввести в Ученый Совет.
Итак, это был откровенный шантаж. Нам оставалось притвориться простодушными и объяснить Парастаеву, что произошло недоразумение. Я предполагала, что хоть он и был мерзавцем, но будучи схвачен за руку, должен был бы уняться. Здесь мы попали впросак. Не каждый хам — мерзавец, и не всякий мерзавец — злодей. Но именно Парастаев удачно сочетал все эти качества. На таких не слишком крупных и потому неуловимых функционерах и держалась власть. Власть ВАК — в частности.
Через полтора месяца из Ленинграда позвонила огорченная Лида. Работу вернули на филфак с сопроводительным письмом, из которого вытекало, что кворума не было. Декан упомянул об этом прискорбном факте на очередном заседании. Кого-то якобы вывели, но куда-то не вписали. Или, наоборот, не вычеркнули.
Вообще говоря, если бы это было правдой, то Ученый Совет обязан был вернуться к повторному, на этот раз формальному рассмотрению моей работы. Процедурные нарушения всегда и везде возможны. И это предусматривалось: инструкция ВАК все же защищала соискателя. Но ко мне это, увы, не относилось: прежний Ученый Совет филфака ЛГУ уже был расформирован, а новый не являлся его правопреемником. Однако даже в рамках кафкианской логики надо было рассмотреть юридический аспект происшедшего. Не только со мной и не только при защите диссертации мог произойти такой казус!
Мои друзья по возможности пытались помочь мне развязать этот узел. Сережа Чесноков, постоянный участник нашего семинара, с которым мы были в тесных дружеских отношениях, договорился со своим знакомым юристом. К нему они поехали вдвоем с Юрой. Позже мы узнали, что это был знаменитый Кисенишский — человек, выступавший защитником на нескольких политических процессах.
Кисенишский объяснил, что ВАК — это организация, на которую по закону просто некуда жаловаться. Однако в Прокуратуре Союза существует Отдел общего надзора. Туда можно обратиться, мотивируя свою жалобу тем, что я считаю ущемленными свои гражданские права. Это было логично — в конце концов, если бы, например, сгорела сберкасса, не я же должна доказывать, что у меня там есть вклад! И ученый не сам организует защиту диссертации, не следит за кворумом, не считает голоса и т. п. Урна с бюллетенями тоже может сгореть — покойный И. М. Смолянский рассказывал мне, как однажды кто-то нечаянно вместе с бюллетенем опустил в урну непотушенную папиросу.
А поскольку у меня в руках не было никакой официальной бумаги, дающей основания для ходатайства, Кисенишский посоветовал пойти законным «советским» путем: написать председателю ВАК Кириллову-Угрюмову, послать с уведомлением о вручении, он, натурально, не ответит, и тогда через месяц я могу жаловаться прокурору на то, что так вот поступают с письмами трудящихся.
Своеобразные, однако, были времена! Юра был членом КПСС с 1946 года и представлял себе, какие рычаги «там» обычно пускают в ход. Он позвонил декану ленинградского филфака и сказал, что тот, как член партии, будет нести ответственность за странные манипуляции с составом Ученого Совета и что Юра, в свою очередь, как член партии, это так не оставит. И это сработало! Декан, видимо, достаточно струсил, чтобы понять, что для него более безопасно ввести дело в легальные рамки. Я получила официальную бумагу за подписью Парастаева, где сообщалось, что диссертация возвращена по месту защиты «по причине отсутствия кворума».
С этим уже можно было идти непосредственно в Прокуратуру, не затрагивая вопрос о том, как обращаются с жалобами трудящихся. Попасть на прием в Прокуратуру Союза составляло отдельную задачу, ибо с частными лицами там, как правило, дела не имели. Когда я по заказанному заранее пропуску вошла в здание на Пушкинской, то была поражена любезностью гардеробщицы, охранявшей пустые вешалки.
Разговор мой с прокурором интересен тем, что из всех официальных лиц, с которыми мне пришлось сталкиваться в связи с моим «процессом», это был единственный человек, который вел себя адекватно обстоятельствам. Первый вопрос его был: «Скажите, у вас есть враги?» Я была несколько ошарашена и ответила, что враги, наверное, есть у всех, но своих я не знаю. А не предшествовали ли моей защите какие-либо конфликты и кляузы? Нет. А как мне работается? Все нормально. И тогда он сказал: «Дайте, пожалуйста, вашу жалобу». На что я честно ответила, что жалобу не принесла, потому что никогда их не писала.
Мне было велено написать жалобу и обязательно дать в ней сведения о себе. «Это для нас очень важно», — подчеркнул прокурор. Я потом долго думала, куда же в жалобу вставить перечисление моих «заслуг» перед человечеством — «Прогноз в речевой деятельности», книги, аспиранты, — это же принадлежало совсем другой жизни! Так и не нашла и приложила в виде отдельного листка. Жалобу я оставила в экспедиции и стала ждать.


























