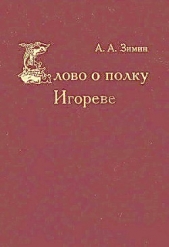Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987)

Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987) читать книгу онлайн
Переписка Алексея Ивановича Пантелеева (псевд. Л. Пантелеев), автора «Часов», «Пакета», «Республики ШКИД» с Лидией Корнеевной Чуковской велась более пятидесяти лет (1929–1987). Они познакомились в 1929 году в редакции ленинградского Детиздата, где Лидия Корнеевна работала редактором и редактировала рассказ Пантелеева «Часы». Началась переписка, ставшая особенно интенсивной после войны. Лидия Корнеевна переехала в Москву, а Алексей Иванович остался в Ленинграде. Сохранилось более восьмисот писем обоих корреспондентов, из которых в книгу вошло около шестисот в сокращенном виде. Для печати отобраны страницы, представляющие интерес для истории отечественной литературы.
Письма изобилуют литературными событиями, содержат портреты многих современников — М. Зощенко, Е. Шварца, С. Маршака и отзываются на литературные дискуссии тех лет, одним словом, воссоздают картину литературных событий эпохи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
_____________________
Прочитав Ваше первое письмо, я порадовалась тому, что Элико, Вы и Маша уже на воле, среди зелени, на чистом воздухе. Каникулы! Отлично. А что у Вас было с сердцем? Сердце — это моя специальность — зачем и Вы занялись «по сердечной части»?
Получив второе письмо, я призадумалась. И письмо от Мих. Ис. [338] И письмо от Шуры. И все рассуждают так разумно, последовательно, убедительно.
Наверное, вы все трое правы. Говорю это без лицемерия. Но я не хочу на этом месте ничего смягчать, приглушать, затемнять. Не хочу ни словом, ни звуком участвовать в создании новой лжи, которая мне почему-то мерзее старой. XX и XXII Съезд подарили нам слова: арестован, репрессирован, погиб в заключении, реабилитирован посмертно. Я не хочу уступать их, ни одно. Ни ради чего, ни ради кого. Я хочу писать и говорить формулами XX и XXII Съезда, а не теми, которые кто-то (кто?) требует от нас теперь — в Ленинграде, в Детгизе.
Разумна ли такая неуступчивость? Не знаю. Вряд ли. Но я не хочу. Не хочу изо всех сил.
Тошнит, как от рыбы гнилой [339].
Я писала свое предисловие в самый разгар болезни, потихоньку от Люши и врачей вставая с постели. Мне было трудно сидеть за пюпитром, я валилась на бок. Мне было невозможно читать старую книгу Мильчика [340], напечатанную мелким шрифтом на желтых страницах.
Но написать было делом чести. Биография Мильчика мне совершенно чужая, чуждая (90-ые годы), но я должна была написать — из уважения к его судьбе, к его памяти, к Шуриному прекрасному труду [341]. Я написала в срок, день в день, без опоздания. Написала, как могла лучше и как могла осторожнее, скромнее.
Для меня все это вместе было пыткой.
И — напрасной. Детгиз прислал мне предисловие обратно [342]. Пусть так. Пусть зря. Пусть лежит в ящике. Трогать я его больше не буду.
Мне одна приятельница купила «Мы знали Шварца» [343]. Предвкушаю.
Võsu. 11.VII.66.Дорогая Лидочка!
Меня огорчили Ваши строки (туманные, недоговоренные) об Ахматовой. О какой «посмертной катастрофе» Вы пишете? Ведь я ничего не знаю.
Простите, Лидочка, Ваша воля, но я не могу согласиться с Вами, одобрить твердость Вашей позиции в вопросе о Мильчике. Решения съездов нам всем так же дороги, как и Вам. Чтобы они не были окончательно забыты — надо о них напоминать, хотя бы не в полный голос, хотя бы глухо, намеками, иносказательно, как угодно, хотя бы двумя словами: «Невинно пострадал».
Как Вам показалась книга «Мы знали Евг. Шварца»?
19/VII 66.Дорогой Алексей Иванович.
Мне раздобыли сборник о Шварце, и я прочла его уже недельки две тому назад. Я нахожу, что, не говоря уж о Ваших великолепных воспоминаниях, весь сборник на очень большой высоте. Ну, конечно, Дымшиц плох (и жаль, что Е. Л. и с ним ходил гулять, и для него острил!); и наш друг Рахтанов, к сожалению, слабоват; но прекрасен Акимов, и даже Кетлинская недурна. Николай Корнеевич рассказал кое-что интересное, но увы! его старинная нелюбовь к С. Я. заставила его исказить факты в том месте, где он говорит о «Еже» и нашей редакции. (Будто в начале тридцатых годов все крупные писатели покинули редакцию — и даже такая крупная сила, как Груня Левитина!) Когда он пишет, что якобы у С. Я. руки не доходили до «Ежа», то под строчками слышится «к счастью не доходили»… Но все это пустяки; а в общем — образ Шварца глядит со страниц сборника.
Ваши воспоминания я прочитала снова — с тем же интересом, с тою же радостью — и хорошо, что тут они полнее.
Но знаете, что мне осталось неясным? Из сборника я не поняла того, чего не понимала в жизни, была ли в Евгении Львовиче — смелость? Я знала его долго, но более издали, чем вблизи; понимала, что он добр, деликатен, мягок; очень чувствовала силу его артистического очарования, его редкостного дара. Но иногда мне казалось, что юмор его был в жизни щитом, некоторой формой душевной уклончивости, способом самоохраны. В его пьесах это не так — ну, а в жизни? Я не знаю.
_____________________
Говоря о посмертной катастрофе, я имею в виду судьбу ахматовских рукописей [344]. Они в недостойных руках. (Это между нами.)
_____________________
Здесь живет сейчас внучка Колина — Митина дочка. Ей 6 месяцев. Я такого ребенка никогда не видала: это чудо здоровья, веселья, спокойствия. Как ест! Как спит! Как — никогда не плачет! Как с каждым днем умнеет и хорошеет! Просто диво дивное.
Võsu. 6.VIII.66.Дорогая Лидочка!
Спасибо Вам за доброе слово о моем «Шварце» и за похвальный отзыв о всем сборнике. Мне кажется, Вы напрасно не отметили Малюгина, который очень хорош. Дымшиц — Хлестаков. Он врет, что «то Евг. Львович ко мне забегал, то я к нему заходил». Этого не было.
Неточностей, вранья (часто бессознательного, от забывчивости) немало и в других статьях. В книге, посвященной Шварцу, это как-то особенно огорчает: вранье он почитал, кажется, за самый большой грех.
Был ли он СМЕЛ? Не помню, кажется у Сервантеса я прочел когда-то запомнившуюся мне испанскую поговорку: «Никто не может сказать о себе: „я храбр“, но некоторые могут сказать: „я был храбр“».
Да, я знаю случаи, когда Евгений Львович проявлял (перебарывая лень и трепет душевный) настоящую храбрость, шел и вступался за людей даже не очень близких ему. Но вместе с тем есть большая доля правды и в том, о чем пишете Вы, — иногда ЮМОР ЕГО становился именно таким, защитным, самоохранительным. Но, скажите, кто из нас, проживших сталинские годы и оставшихся тут, может сказать: я — храбр?! Да, я знал много смелых людей: Вас, Т. Г. Габбе, Ф. А. Вигдорову, Р. Васильеву, А. А. Ахматову, М. М. Майслера… Список можно продлить. Но разве не было у каждого из названных какого-нибудь щита или другого средства самоохраны? Пожалуй, из всех, кого я когда-либо знал, самым смелым, прямолинейным был М. М. Зощенко. Но ведь и у него был «щит»: его слава!
18/VIII 66, Пиво-Воды.Дорогой Алексей Иванович.
Какие же вы молодцы оба — Вы и Элико, что вам удалось уговорить Александру Иосифовну приехать и пробыть у вас целую неделю! Хоть неделю! Я говорила с ней по телефону на днях — у нее даже голос посвежел, по-моему.
Теперь о Евгении Львовиче. В предыдущем письме я неверно, плохо, неточно задала Вам вопрос — храбр ли он был? Я не имела в виду гражданское мужество — какая уж в тридцатых годах гражданственность! какая гражданская доблесть! она не была возможна даже для хороших людей хотя бы потому, что даже лучшие понимали действительность неясно, мутно. И я, как и все, ни от кого не вправе ее требовать и никому не судья. Но общаясь с Е. Л., я всегда чувствовала — может быть, и ошибаясь, — что человек он вообще уклончивый, непрямой, что его редкостный, прелестный, очаровательный юмор служит ему в жизни прикрытием. Вот и все, о чем я хотела спросить Вас. В сборнике он не такой.
А насчет статьи Малюгина Вы правы — отличная статья [345].
Что Вы нового хорошего читали? В «Москве» появились стихи Анны Андреевны (№ 6), в журнальчике «РТ», № 13 — тоже… Как бы она рада была увидать их. Но хорошо, что хоть читатель их видит, наконец — с опозданием чуть ли не в четверть века.