Дзига Вертов
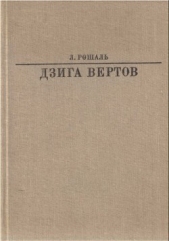
Дзига Вертов читать книгу онлайн
Книга посвящена выдающемуся советскому кинорежиссеру, создателю фильмов «Ленинская Кино-Правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и др., ставших классикой мирового киноискусства, оказавших огромное влияние не только на развитие отечественной кинопублицистики, но и на весь процесс формирования мирового киноискусства. Жизнь и творчество Вертова исследуются автором на широком историческом фоне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эмоции Вертова, его влюбленность в завод, в трубы и бессемеры, пришлись ко времени, оказались даже более реальными, чем тогда, когда были впервые объявлены. Как раз в эти часы, дни, месяцы стремительно разворачивалась эпоха индустриализации страны.
Нэп еще бушевал вовсю, но близился его конец.
Страна получила (и получала все больше) то, ради чего он был введен, — силы и средства для выхода из темноты и отсталости.
Многие прежние ленты Вертова были связаны с периодом временного отступления: вчерашняя жизнь, казалось бы, навсегда провалившаяся в тартарары, вдруг стала уживаться в некоем противоборствующем равновесии с ростками будущего, часто еще не окрепшими.
Нэп не кончился.
Тем более не кончилось противоборство.
Но кончилось равновесие — Вертов это чутко уловил.
Ростки окрепли.
„Одиннадцатый“ совпал с началом решительного наступления и рассказал о нем.
Рассказал о стране, превращавшейся в огромную новостройку.
Рассказал о вековой тишине, расколотой динамитными запалами, перезвоном тысяч и тысяч лопат, перестуком топоров и молотков, взвизгом пил, надрывным свистом юрких маневровщиков, ухающими ударами молотов.
Фильм начинался с первобытного спокойствия приднепровских пейзажей и разрытой у днепровских порогов скифской могилы, черными глазницами смотрел древний воин в далекое небо, вслушиваясь в тишину.
И вдруг подавала сигнал труба, ударял предупредительный колокол, запалялся шнур, и, через мгновение, вздрогнув, земля вставала дыбом — раз, и еще раз, и еще…
А рядом с могилой перекатывались по рельсам сорокатонные краны. Приседая на стрелках, шли тяжелые поезда с грузами. Сновали вагонетки.
„Скиф в могиле — и грохот наступления нового“, — записывал Вертов.
Слово-радио-тему Вертов исключил из этого фильма, вообще свел количество слов к минимуму.
Он вступал в спор со своей прежней картиной, но не ради спора.
Патетика „Шестой части мира“ наиболее полно выражалась сочетанием изображения со звучащим словом.
Патетику „Одиннадцатого“ Вертов стремился выразить иначе: через звучание самого изображения.
Исключив слово-радио-тему, он не исключил радио-тему.
В предыдущей картине зритель слышал (обращенные прямо к нему) надписи. В новом фильме он видел изображения, которые звучали.
Это был поиск новых форм, но он вытекал из конкретной смысловой задачи: передать пафос индустриального строительства через грохот наступления нового.
Через то, что в картине было названо „октябрьской перекличкой“ — заводов и шахт, строек и деревень.
Днепрострой, электрификация, добыча угля, выплавка чугуна — все это были как бы отдельные мускулы пары могучих рабочих рук, отдельные усилия в общем напряжении, в едином коллективном порыве к труду.
Передавая монолитность порыва, плотность общих усилий, Вертов рассекал кадр по горизонтали: в верхней части трудились два молотобойца, в нижней проходил товарняк, груженный рудой, без нее нельзя было ни сделать этих молотов, ни уложить рельсы, ни вбить упругий костыль.
Вариантом названия картины были „Великие будни“.
Октябрьская перекличка сливала, не давая потеряться в будничном грохоте новостроек, все голоса.
В нее вплетались и голоса часовых Родины, участников маневров, красноармейцев и краснофлотцев, они стояли на страже Октября, на страже ленинских заветов — в финале над ликующей во время октябрьских торжеств Красной площадью, над Мавзолеем возникали краснофлотцы с отомкнутыми у винтовок штыками.
„Если это та самая фильма, — писал Михаил Кольцов в „Правде“ 26 февраля 1926 года в большой статье об „Одиннадцатом“, — из-за которой Вертову пришлось уйти из Совкино, то в выполненном виде она является живым упреком людям, препятствовавшим ее постановке“.
„Одиннадцатый“ повторял некоторые прежние мотивы.
Он стал еще одним пробегом Кино-Глаза в направлении советской действительности.
Но менялась действительность — менялся маршрут киноглазовского движения. „Шестая часть мира“ рассказала о коллективных усилиях, подготавливающих плацдарм для наступления, „Одиннадцатый“ — о всеобщих усилиях народа, поднявшегося уже в атаку.
Новым поворотом прежней темы Вертов откликался на биение пульса эпохи.
Но в этом показе нового, индустриального среза времени Вертов порой оказывался монотонен, несмотря на многоголосие, слившееся в грохоте наступления.
Голосов было много. Но много было одинаковых голосов — не по физическому звучанию (гул взрывных работ мало походил на удары молотов, шум водяного обвала у плотины выстроенной ГЭС на перезвон лопат в котловане строящейся), а по вызываемым голосами чувствам.
Пафос прежних лент обычно вырастал из преодолений контрастов: вчера — сегодня, раньше — теперь. В „Шагай, Совет!“ народ одной рукой очищал жизнь от грязи прошлого, другой — строил будущее.
В „Одиннадцатом“ будущее строилось обеими руками.
С прошлым еще не было покончено, но изменение в соотношении сил этим ощущением свободы рук передавалось прямее всего.
Новое соотношение сил, предвещая невиданные победы в ходе развернувшегося наступления, вдохновляли Вертова.
Но энтузиазм будущих побед порой обгонял будничное напряжение сегодняшней атаки.
Пафос не вырастал из быта, а в какой-то степени отрывался от него.
Высокая нота звучала мощно, но ей недоставало переливов и модуляций.
Кольцову показалось, что в картине слишком „подрезаны“ места, где вместе с машинами действуют люди, возникает, как он считал, некоторая „механистическая сушь“ — начинаешь скучать по живым строителям.
Это отмечали и другие критики, считая, что в „Одиннадцатом“ прекрасно снятая и энергично смонтированная индустрия заслоняет человека.
Но дело было не в количественных соотношениях техники и человека и не в длине планов, в которых были сняты люди.
Людей в картине было немало, а короткие „человеческие“ планы Вертов давал и раньше.
Сам поэтический жанр требовал предельно концентрированной во времени выразительности. К тому же документальное кино еще не знало (не знал этого и Вертов), как углубиться в человека и через его облик, внешнее поведение вскрыть индивидуальный внутренний мир. Держать одного человека на экране долго было делом бессмысленным и скучным: увеличение времени не служило гарантией того, что Кольцов перестал бы скучать по живым строителям.
С другой стороны, в „Одиннадцатом“ за движением машин и механизмов ясно угадывалась воля миллионов, „коллективного человека“, как писала критика.
Вертов стремился в картине к предельно укрупненному и монолитному изображению человека.
Он как-то заметил: киноки никогда специально не рвутся к символике, однако, если обобщения вырастают до символа, то это не приводит их в панику.
Но в „Одиннадцатом“ человек не вырастал до символа, а сразу же давался как символ. Кадры, подобные тому, где гигантский рабочий поднимался с молотом над днепровскими порогами, подчеркивали это.
Человеческое начало уступало место технике не потому, что техники было много, а человека мало, а потому, что техника на экране была живой, а люди — символами.
Они не жили, а представительствовали — от того пли иного класса, той или иной социальной группы.
Их изображения на экране как бы писались с прописных букв: не рабочий, а Рабочий, не шахтер, а Шахтер, не крестьянин, а Крестьянин, не краснофлотец, а Краснофлотец, что подчеркивалось ракурсами, съемками с нижних точек.
С одной стороны, это соответствовало новому могучему развороту времени.
Но с другой — лишало человеческое начало того, что свойственно человеку и не свойственно символам, — внутренней сложности, разнообразия и индивидуальности душевных порывов.
В грохоте наступления Вертов не оставлял мгновений тишины для раздумий и переживаний.
Так появилось ощущение, что на экране „людских ресурсов“ недостаточно, хотя их было не меньше, чем в других лентах Вертова.
Так возникла некая монотонность интонации при всем симфонизме вещи.























